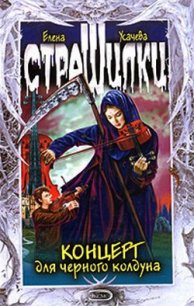Бальзак и портниха китаяночка - Сижи Дэ (читать книги бесплатно полные версии .txt) 📗
Как— то утром мы вспомнили, что нас ожидают эти проклятые бадьи, и у нас пропало всякое желание вставать. Мы еще лежали в постелях, когда услышали приближающиеся шаги старосты. Было уже почти девять, петух невозмутимо продолжал поклевывать воображаемые зернышки, и тут Лю пришла гениальная идея: он подцепил мизинцем минутную стрелку и прокрутил ее в обратном направлении, переведя будильник на час назад. И мы снова заснули. Ах, до чего было приятно нежиться в постели, тем паче зная, что староста топчется у дома, не выпуская изо рта бамбуковую трубку. Эта дерзновенная и счастливая находка несколько смягчила нашу неприязнь к бывшим выращивателям опиумного мака, перековавшимся при коммунистическом режиме в «беднейшее крестьянство», каковому и было поручено наше перевоспитание.
С того исторического утра мы частенько крутили стрелки будильника. Все зависело от нашего физического состояния и настроения. Иногда мы, если хотели пораньше закончить работу, передвигали их не назад, а на час или два вперед.
А поскольку нам было не с чем и негде сверять часы, мы в конце концов утратили всякое представление о реальном времени.
На горе Небесный Феникс часто шел дождь. Можно сказать, из каждых трех дней два были дождливыми. Ливни или грозы случались редко, в основном то был мелкий, унылый, нудный дождик, который, казалось, никогда не кончится. Очертания пиков и скал вокруг нашей хижины на сваях расплывались в густом сером тумане, и этот почти ирреальный пейзаж ввергал нас в глухую тоску, тем более что в хижине нашей царила постоянная сырость, все покрывалось плесенью, и бороться с ней было бессмысленно. Жить в этой хижине было все равно что жить в пещере, а может, и хуже.
Иногда по ночам Лю не мог заснуть. Тогда он вставал, зажигал керосиновую лампу и лез под топчан, шарил там в темноте окурки, которые когда-то туда бросил. А вылезши оттуда, усаживался, поджав ноги, на топчане, раскладывал собранные окурки на листке бумаги (иногда это оказывалось драгоценное письмо от родителей) и сушил их на огне керосиновой лампы. После чего высушенные окурки препарировал и с тщательностью часовщика собирал все до единой крошки табака. Сворачивал самокрутку, прикуривал и гасил лампу. Он сидел, курил в темноте, вслушиваясь в молчание ночи, нарушаемое хрюканьем свиньи, которая под нами разрывала пятачком навозную кучу.
Случалось, дождь затягивался надолго, и Лю мучался от отсутствия курева. Как-то раз он разбудил меня среди ночи.
— Я не нашел ни одного охнарика ни под топчаном, ни по углам.
— И что же?
— У меня депрессия, — сообщил он. — Может, сыграешь мне на скрипке?
Я не стал отказываться. Еще не до конца проснувшись, я играл и вдруг неожиданно подумал о наших родителях, о его и моих: вот если бы пульмонолог или великий дантист, совершивший столько разнообразных подвигов, могли увидеть нашу ночную хижину в зыбком свете керосиновой
лампы, если бы могли услышать звуки моей скрипки, аккомпанементом которым служит хрюканье свиньи… Но тут никого не было. Даже деревенские не могли меня слышать. Ближайший дом находился от нас метрах в ста, не меньше.
А за стенами лил дождь. Но это был не тот привычный моросящий дождь, а внезапно налетевший затяжной ливень, и его струи барабанили по дранкам крыши. Несомненно, это еще больше усиливало мрачность Лю. Ведь мы были обречены оставаться здесь на перевоспитании до скончания века. Как правило, если верить официальным партийным газетам, у молодого горожанина, происходящего из нормальной семьи рабочих или революционных интеллигентов, был стопроцентный шанс (в том случае, разумеется, если он не натворит никаких глупостей) пройти процесс перевоспитания за два года и возвратиться к себе домой в родной город. Но для детей, чьи родители оказались зачисленными во враги народа, возможность вырваться из деревни была минимальной, равной примерно трем тысячным. Если основываться на математике, положение наше было безнадежным. Нам маячила светлая перспектива постареть, облысеть в этой хижине на сваях, здесь же окочуриться и быть похороненными в белом саване по местному обычаю на здешнем кладбище. Честно сказать, было отчего впасть в депрессию и бессонницу.
В ту ночь я сыграл сперва кусочек из Моцарта, потом из Брамса, потом бетховенскую сонату, но даже Бетховену не удалось поднять моему другу настроение.
— Попробуй что-нибудь другое, — сказал он мне.
— А что бы ты хотел услышать?
— Что-нибудь повеселее.
Я задумался, перебрал весь свой скудный репертуар, но ничего не нашел.
И тут Лю принялся насвистывать одну революционную песню.
— Как тебе это? — поинтересовался он.
— Здорово.
Я тут же стал подыгрывать ему на скрипке. То была тибетская песня, в которой китайцы изменили слова, сделав из нее песню, славящую председателя Мао. Но, несмотря на это, мелодия сохранила свою жизнерадостность и какую-то неукротимую энергию. Переделка не смогла окончательно испортить ее. Все больше возбуждаясь, Лю вскочил на топчане и принялся плясать, выкидывая коленца, под аккомпанемент капель, которые просачивались между скверно уложенной дранкой, и падали на пол.
«Три тысячных», — вдруг подумал я. У меня вероятность три на тысячу, а у этого унылого курильщика, который ни с того ни с сего вдруг так расплясался, и того меньше. Быть может, когда-нибудь, когда я усовершенствуюсь в игре на скрипке, какая-нибудь местная или уездная агитгруппа, к примеру, из Юнчжэна, вытащит меня отсюда, пригласив играть какую-нибудь революционную музыку. Но Лю не умеет играть на скрипке и даже не играет ни в футбол, ни в баскетбол. У него нет никаких козырей, чтобы выиграть в жесточайшей конкуренции, существующей среди тех, чьи шансы три на тысячу. Ему и мечтать-то об этом не приходится.
Его единственный талант — это талант рассказчика, в каком-то смысле необыкновенный, но, к сожалению, не первостепенной важности и вряд ли имеющий будущее. Как-никак мы живем не во времена «Тысячи и одной ночи». В современном обществе, неважно, капиталистическом или социалистическом, сказитель — это не профессия.
Единственным, пожалуй, человеком на свете, способным оценить его сказительский талант и даже вознаграждать за него, был староста нашей деревни, последний из феодальных властителей, любящих занимательные истории, которые рассказывают сказители.