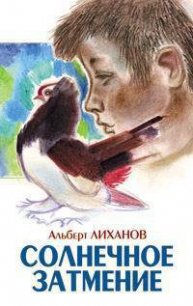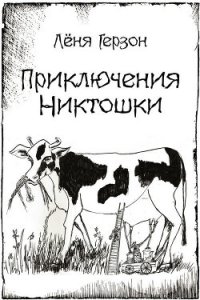Никто - Лиханов Альберт Анатольевич (читаем бесплатно книги полностью TXT) 📗
Кухонные звуки менялись, когда ребятня заходила на завтрак или обед. Гремели поварешки, стукаясь о края огромных кастрюль, шипение притихало, пространство заполняли детские голоса, и тетя Даша – потная, розовая, чрезмерно толстая, как тюлениха, выходила в залу и прислонялась к стене.
Она разглядывала жующий люд, и в глазах у нее частенько поблескивали слезы. Кольча удивлялся про себя, что, столько лет работая гут, тетя Даша все еще готова утирать щеки.
Где-нибудь классе в третьем на него накатила подозрительность. Ему пришла в голову мысль, что тетя Даша просто надувает местных простаков и, перед тем, как выйти в залу и прислониться, пригорюнившись, режет лук. Слезы, как известно, от чистки лука сразу не проходят, вот она и разыгрывает сцену.
Он стал приходить чуть раньше, чем все, усаживался поближе к раздаточному проему, чтобы видеть, кто и чем занимается на кухне, но подозрения его не подтвердились: тетя Даша, перед тем, как выйти к едокам, лук не резала.
На самое малое мгновение Кольча тогда как бы усовестился, впрочем, это было уже чувство, а они росли в бесчувственном мире, так что скорее всего он испытал краткое неудовольствие, признание своей ошибки, опровержение предположения.
Себя он не укорил, хотя ведь тетя Даша выделяла его. Иногда она присаживалась к нему на освободившееся рядом место, вздыхала, облокотясь, смотрела на него жалостным взглядом и чаще всего на разные лады повторяла одну и ту же мысль, что, дескать, вот ведь кормит она Кольчу всю его здешнюю жизнь, начиная с трехлетнего его возраста, и, таким манером, все его существование помещается в ее поварской стаж. При этом она предлагала Кольче добавки, и он, когда было что-нибудь вкусненькое, от нее не отказывался.
Лишний там стакан киселька или еще полкотлетки, особенно когда подрос и аппетит порой разыгрывался просто волчий.
От него, от Кольчи, в ответ говорить ничего не требовалось, он всегда ел молча, изредка взглядывая на тетю Дашу своими льдистыми, светло-серыми глазами, не выражающими ответной благодарности или каких-либо душевных чувств.
Эти проявления внимательности отнюдь не перевели бы тетю Дашу из разряда живых вещей в человеки, если бы не еще одна ее особенность.
Вечером, после ужина, она уходила с тяжелыми сумками в обеих руках. Лучше всего она ощущала себя при этом зимой, в сумерках, но летом ей было явно не по себе. Да еще когда есть такие, как Кольча.
Время от времени он караулил тетю Дашу и вставал у нее на пути. Стоял молча – и просто смотрел. Тетя Даша отворачивала взгляд, разглядывала ничем не примечательные стевы интерната, а летом глядела под ноги и, увидев Кольчу, убыстряла свой мелконький, семенящий шаг.
Эту свою забаву Топорик приобрел все в том же третьем классе, но тогда он здоровался при пересечении с поварихой. Она ему щедро улыбалась, полагая, что он еще мал разбираться в незримом, подозревать кого бы то ни было, а уж тем более судить.
Но по мере того, как Кольча вырастал, здороваться он перестал, ведь это было смешно, они же виделись за день как минимум три раза – на завтраке, обеде и ужине, а часто тетя Даша еще и присаживалась к нему, излагая одну и ту же, лишь словами отличающуюся теорему, да еще и подносила добавку, так что здороваться вечером было глупо. Он просто стоял и просто смотрел, сунув руки в карманы, молчал, а про себя думал безответно все о том же: можно ли искренне жалеть его и других и тут же воровать.
Что воровать тетя Даша имеет полное право, ни Топорик, ни кто другой среди интернатовцев не сомневался, да и само это слово «воровать» никак не вязалось с толстой и слезливой тетей Дашей. Она готовила еду и брала для себя и своей семьи – разве нет у нее такого права? Так что она могла уносить.
Но зачем же тогда слезиться?
Тетя Даша шла на него: не нагличая вконец, шагов за десять, он отступал в сторону, но не отрывал глаз от округлого, с висящими щеками лица, пока, оседая под тяжестью своих сумок, точно атлетка под весом гирь, тетя Даша минует его, многолетнего, молчаливого, не возражающего – кого? Судью? Свидетеля? Соглядатая, ни на что не имеющего прав? А может, подкупленного добавками соучастника?
Нет, в том-то и дело, что за много лет наблюдений Кольча верил в искренность тети Даши, знал, что она выделяет не только его одного и у нее есть свой, откуда-то вызнанный принцип особенного ее отношения: она отмечала всех, кто выпадал в последний остаток, кто никого давно не ждал и, похоже, не имел прав на ожидание. Это во-первых. Во-вторых, тетя Даша имела слабость, признаваемую им законной. Человек без слабостей – это только служба, а значит, только функция. Может, тетя Даша жалела еще кого-нибудь на стороне и носила продукты ему?.. Мало ли…
Судят ведь только сами ничего не совершившие, безгрешные, а потому отвратные.
Тот, кто согрешил хоть в малом, не торопится стать судьей.
Но Кольча ничего не мог с собой поделать. Не часто, но все-таки иногда, время от времени, он становился на пути тети Даши, и та проходила мимо, опуская голову под его немигающим водянистым взглядом.
Не злясь, не переживая, не любя и не ненавидя, Топорик всякий раз повторял, даже сам того не сознавая, один и тот же основной урок: все грешны, безгрешных не бывает.
4
Итак, он рос, как травинка на лугу. Бывают, конечно ведь, луга культивированные, где землю обрабатывают, удобряют, а траву сеют. Из отборных семян, ясно дело, вытягивается тугая, ровная зелень, красивая и полезная. Но есть луга дикие, ну хотя бы заливные. Река по весне захватывает эти земли, наносит на нее сор, но, видать, подкидывает илу или еще каких-то неведомых мелких частиц, а когда весенний паводок сходит, заливной луг сияет травным изумрудом ничуть не хуже, чем культивированный, а если среди ровной, рвущейся к жизни травы выше всех вырвется чертополох, репейник или белена – что поделаешь, ни один естественный, необработанный особо кусок земли не обходится без сорняков, которые застят свет, чернеют на фоне безоблачных небес, забивают все растущее понизу, особливо, если у нижней травы слабые корни.
Время от времени на Колю накатывал какой-то стих, будто из неведомых ему его собственных кровавых глубин, незримых, пока человека не располосуют, как из тайных недр земли, где кипят безумной жаркости магма, газы и Бог знает еще что, на самом деле управляющее жизнью на планете, похожее на вулканическое извержение и землетрясение враз, выходило наружу, корежило, прерывало дыхание, выбивало нездоровую, бесстрастную слезу.
Он, допустим, лежал на своей скрипучей деревянной койке с блестящей, лакированной стенкой в ногах перед сном, когда отбой уже прозвучал командой воспитательницы, но свет еще не вырубили и отставшие стягивают с себя носки, чтобы нырнуть под одеяло, а он уже лег, растянулся, пытаясь расслабиться, – и тут, без всякого предупреждения, без повода, без знака, из него что-то выпучивало, выгибалось, лезло, неясное поначалу, в самые малые его годы, но потом все-таки каким-то образом выражаемое…
Он терял опору под собой – вот как это выглядело. Однажды, на речке, когда, как и многие другие, он учился плавать под наблюдением Георгия Ивановича – длинного, нескладного, худого, в длинных семейных трусах, будто какая несуразная цапля, стоящая по колено на мелководье, и приглядывающего за всеми сразу, – так вот, однажды, побулькав на отмели и решив по глупости, что освоил новое умение, Кольча оттолкнулся ногами ото дна и сделал несколько лихорадочных гребков в сторону глубины. Тут же он опустился снова, норовя опять оттолкнуться, но дна не нашел, оно исчезло, и его повело вниз – вот тогда он и ощутил это странное состояние: снизу живота, к пупку, а потом к горлу стрелой пронеслась какая-то озаряющая последняя молния, которая помимо желания включила все его силы – ноги и руки отчаянно задергались, он выскочил наверх и тут же оказался в руках у Георгия Ивановича, стоявшего теперь не по колено в воде, а по самое горлышко.