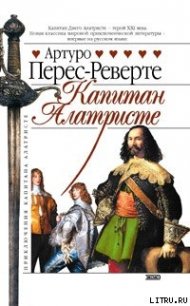Баталист - Перес-Реверте Артуро (читать лучшие читаемые книги .TXT) 📗
– Знаете что?… В вас есть такое, что мне не нравится.
Фольк понимающе улыбнулся:
– Кажется, я догадываюсь, что вы имеете в виду.
– Именно это мне и не нравится. То, что вы знаете, о чем я говорю.
Она разглядывала его пристально, не мигая, и ее глаза больше не улыбались. Через некоторое время она снова повернулась к фреске.
– Какой-то извращенный взгляд на мир.
Она рассматривала сцену с ребенком, плачущим возле изнасилованной матери. «Поруганное Сострадание», – неожиданно подумал Фольк Раньше подобное название не приходило ему в голову, даже в то время, когда он ее рисовал. Возможно, именно присутствие этой женщины – реальной, из плоти и крови – наполнило сюжеты панорамы смыслом. Так было в тот раз, когда на глазах Фолька у одного посетителя музея Прадо прямо перед «Снятием с креста» Ван дер Вейдена случился инфаркт. По залу металась публика, над трупом склонился врач, появились санитары с носилками и кислородным аппаратом, и среди всей этой суеты и сама картина, и зал, где она висела, наполнились новым смыслом, словно хэппенинг Вольфа Востелла.
– Дело не в том, что мне не нравитесь вы, – продолжала Кармен Эльскен. – Все наоборот. Вы очень интересный человек. Красивый мужчина, простите, что я вам это прямо говорю… Сколько вам лет?… Около пятидесяти?
Фольк не ответил. Его внимание поглощали образы на стене. Предчувствия роковых совпадений, которые внезапно сбылись – на сетчатке глаза, в каждом мазке кисти, отразивших тайные закоулки памяти, укромные уголки существования. В лице ребенка проступали черты солдата-палача, который преследовал беженцев. Черты поруганной матери повторялись в каждой женщине, бежавшей из города, – и так до бесконечности. Будь проклят плод чрева твоего. Кармен Эльскен права. Извращенность как общий фон. Если зритель высокопарно назовет это Ужасом с большой буквы, он просто попытается придать смысл простоте очевидного.
– Почему вы подошли ко мне в порту? Фольк очнулся. Перед ним стояла женщина.
Обнаженные плечи под тоненькими бретельками платья. У нее особенный запах, осознал он внезапно. Такой знакомый, почти забытый. Запах сильной здоровой самки.
– Я вам уже говорил: я слышу ваш голос ежедневно, в один и тот же час. Кроме того, вы красивая женщина. Простите, что я вам это прямо говорю.
Наступила тишина, Кармен Эльскен отвела глаза. Она снова рассматривала фреску, однако на сей раз казалось, что ее мысли где-то далеко. Затем она внимательно посмотрела на руки Фолька: так смотрят, ожидая каких-то слов или действий. Однако Фольк по-прежнему молчал и не двигался. Женщина переступила с ноги на ногу. Казалось, она смущена.
– Благодарю, что показали мне свою работу.
– Это я благодарю вас за визит.
– Можно зайти к вам как-нибудь еще?
– Конечно.
Кармен Эльскен направилась к двери, остановилась на пороге и осмотрелась.
– Все это очень странно, – сказала она. – И вы тоже очень странный человек – Она снова встретилась с ним глазами; ее силуэт четко вырисовывался в сиянии солнца, светившего снаружи, глаза цвета прусской лазури пристально глядели в его глаза. И Фольк знал, что если он сделает шаг вперед, поднимет руку и скинет бретельки с бронзовых плеч, платье послушно скользнет к ее ногам и солнце осветит ее обнаженное тело. Его охватил трепет. Мгновение он колебался. «Всему свое время», – подумал он. Для этой женщины времени у него не было. Да и быть не могло. Он отвел взгляд, посмотрел куда-то в землю и ссутулился. «В самом деле», – подумал он с удивлением, теперь ему ничего не стоит оставить все как есть. Он прошел мимо женщины, – он отчетливо уловил ее замешательство, – шагнул из башни и подождал, когда она поравняется с ним. Она шла спокойно, задумчиво глядя на него, и, приблизившись к нему, улыбнулась; ее рот приоткрылся, словно она собиралась произнести какие-то слова, которые так и не слетели с ее губ. Фольк проводил ее до тропинки, пожал протянутую руку и остался стоять, глядя ей вслед Прежде чем исчезнуть внизу среди сосен, Кармен Эльскен несколько раз оглянулась.
Когда Фольк вернулся в башню, солнце еще сильнее продвинулось на своем неспешном пути вниз, к Кабо-Мало, и лучи его через открытую дверь окрашивали белую поверхность стены в теплые желтоватые тона; нарисованные углем под восточным окном фигуры, напоминающие персонажей Гойи или Брейгеля, – воплощение кошмара, увиденное современным оком, – поднимались к подножию извергающего пламя вулкана: человек, добивающий раненого прикладом аркебузы, мародер, грабящий мертвецов, собака, пожирающая трупы, казни и убийства, колесо пыток, дерево с гроздьями повешенных. Зло, вышедшее из-под контроля рассудка; насилие как естественное побуждение человека. Фольк замер перед фреской, рассматривая ее. Извращение, сказала Кармен Эльскен с удивительной проницательностью. Очень подходящее слово, теперь оно кружилось по лабиринту его памяти. Он взял кисти и принялся работать в той части фрески, где Зло таилось в глазах солдата, в глазах ребенка, сидевшего на земле возле матери. Это испуганное детское лицо не было плодом его воображения; оно существовало в определенной точке пространства и времени, и, кроме того, было запечатлено на сорок второй странице лежавшего на столе альбома. Это была одна из самых простых и ужасных фотографий Фолька. Улыбающийся мальчик на пустом футбольном поле: Фольк никогда прежде не видел столь явственного воплощения жестокости войны.
Это произошло на условной границе между сербской и хорватской территорией, где-то не доезжая Вуковара. Поселок назывался Драговач: одна церковь православная, другая католическая, мэрия, стадион. Мирный сельский уголок. Балканский конфликт прокатился по этим местам, не наделав большого шума; единственный его след – пустырь на том месте, где раньше стояла католическая церковь. А так – ни сожженных домов, ни развалин со следами недавних боев, ни осколков снарядов. Жители занимались своими обычными делами и почти не видали солдат. Настоящая сельская идиллия, если бы не одна деталь: все хорваты Драговача, человек сто, за одну ночь куда-то исчезли. Остались только сербы. Ходили слухи о новой резне. Фольк и Ольвидо предусмотрительно раздобыли пропуска югославской армии и разъезжали по дороге, которая вела вдоль Врбаса. Они прибыли в Драговач утром, когда почти все жители работали в поле. Припарковали машину возле мэрии и отправились на прогулку. Им никто не мешал. Они не чувствовали ни малейшей враждебности; на их вопросы жители отвечали отговорками или просто молчали. О хорватах никто ничего не знал, хорватов никто не видел.
Никто не помнил, что они были. Единственный инцидент произошел на площади, где стояла католическая церковь: двое полицейских с сербскими орлами на фуражках попросили у них документы. «Нет фотография», – объяснили они. Verboten. Запрещено. Сначала Фольк встревожился, потому что ему послышалось «verbluten», а это означало «умереть от потери крови» – немного позже ему пришло в голову, что разница между двумя словами была не так уж велика и, возможно, полицейские хотели сказать именно это. Обезоруживающая улыбка Ольвидо, несколько сигарет и непринужденный разговор сняли напряжение. Полицейские тоже ничего не знали о хорватах. Можно возвращаться, заключил Фольк Поехали отсюда. Они вернулись к машине. Обратная дорога из поселка шла мимо стадиона. Вокруг не было ни души. Вскоре у Фолька возникло странное чувство, и он затормозил. Они остались в машине, руки Фолька лежали на руле, сумка с камерами стояла на коленях Ольвидо. Они переглянулись. Затем молча вышли из машины. На стадионе никого не было. Только мальчик, который следил за ними издалека, стоя возле сухого дерева. Что-то недоброе было в лице мальчика, в зловещем молчании пустого здания из серого бетона, такого мрачного, что даже птицы облетали его стороной. И когда они вошли в ворота и оказались на футбольном поле, где трава не росла, земля была взрыта и в воздухе висел какой-то странный запах, Ольвидо вздрогнула и остановилась. Они здесь, сказала она тихо. Все. И в этот миг мальчик их догнал. Он шел за ними следом и теперь присел неподалеку на трибуне стадиона. Ему было лет восемь-десять. Худенький, светловолосый, с очень светлыми глазами. Сербский мальчик. Грубо сделанный деревянный пистолет за поясом, поддерживающим короткие штанишки. И вдруг, хотя ни Фольк, ни Ольвидо не произнесли ни слова, мальчик улыбнулся.