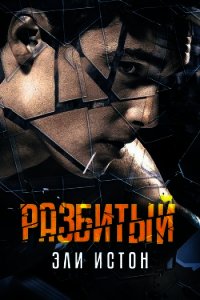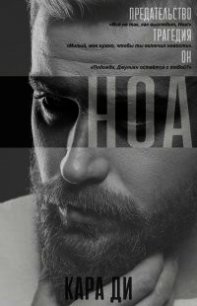Без судьбы - Кертес Имре (первая книга TXT) 📗
Ну и потом, например, посетители: их я тоже пробовал рассматривать, пробовал угадать, вычислить, каким ветром их сюда занесло. Я заметил, что чаще всего они приходят к вечеру, как правило, всегда в одно и то же время,
– из этого я понял, что здесь, в Бухенвальде, в Большом лагере, тоже, видимо, есть такой, более или менее свободный час, вроде того, какой был у нас в Цейце, и здесь, очевидно, он тоже находится в промежутке между возвращением бригад с работы и вечерней поверкой, Среди посетителей больше всего было заключенных с буквой «Р», но видел я и «J», и «R», и «Т», «F», «N», и даже «No», и уж не помню, какие еще; во всяком случае, могу сказать, что благодаря этим людям я узнал и усвоил много новых и интересных вещей; больше того, именно благодаря им я получил возможность более или менее точно представить, какие здесь обстоятельства и условия, какова здесь, так сказать, общественная жизнь. Старожилы Бухенвальда почти красивы, лица у них – это не лица истощенных людей, их походка и движения проворны, многим разрешено носить прическу, а полосатую лагерную одежду они надевают лишь днем, выходя на работу; так делал, например, и наш Петька. Если же вечером, после раздачи ужина, то есть хлебной пайки (обычно треть или четверть порции, вместе с привычно полагающей или привычно не полагающейся Zulage), он собирался, например, в гости, то тоже надевал рубашку или пуловер, а поверх них – с наслаждением, перед нами, больными, еще, может быть, как-то скрываемым, но в общем-то совершенно явно отражавшимся на его лице и в движениях – модный коричневый костюм в бледную полоску; правда, на спине пиджака вырезан был квадрат с заплатой из лагерного полосатого холста, по внешним швам брюк тянулись нестираемые рыжие полосы масляной краски, а на груди и на левой штанине красовалось по красному треугольнику и был нашит личный номер; но это были уже мелочи. Больше неприятных моментов, даже, я бы сказал, страданий доставляли мне случаи, когда он сам готовился к приему гостей. Причиной тому было одно неудачное обстоятельство: как уж там сложилось, не знаю, но как раз возле изголовья моей койки находится на стене электрическая розетка. Одним словом, как бы я ни силился чем-то занять себя, изучая идеальную белизну потолка, эмалевый абажур лампы, погружаясь в свои мысли, я все же не мог не замечать, как Петька присаживается возле розетки с миской и личным электрическим кипятильником, не мог не слышать шипение и потрескивание растопленного маргарина, не мог не вдыхать всепобеждающий аромат поджариваемых на маргарине тоненьких луковых колец и ложащихся на них ломтиков картофеля, а то еще и кружочков порезанного вурста из Zulage; иногда же меня чуть с ума не сводил легкий, ни с чем не сравнимый хруст и усиливающееся в какой-то момент шипение, исходившее – глаза мои хоть на миг, да поворачивались туда, а затем, убегая тут же в сторону, долго еще находились в плену волшебного, словно мираж, зрелища – от перламутровой белизны кружка с ярко-желтой сердцевиной: это было яйцо, разбитое в горячую миску, и готовилась глазунья. Когда все пожарено, все готово к приему, открывается дверь и входит гость. «Добре вечер!» – говорит он, дружелюбно кивая; он тоже поляк, имя его я воспринимаю как «Збышек»; а в определенных условиях или, может, в ласкательной форме, как «Збышку»; он тоже по должности Pfleger, где-то рядом, как я узнал, в какой-то другой палате. Он тоже появляется принаряженный, в сапогах и в короткой, то ли спортивной, то ли охотничьей – хотя на спине, само собой, тоже есть полосатая заплата, а на груди номер – темно-синей суконной куртке, под которой – черный тонкий свитер с высоким, до подбородка, воротником. Высокая, плотная фигура, наголо остриженная – то ли по необходимости, то ли по каким-то собственным соображениям – голова, веселое, лукавое и умное выражение мясистого лица – все это делало его в моих глазах человеком приятным, внушающим симпатию, хотя вообще-то я без всякой охоты поменял бы на него, скажем, Петьку. Они устраиваются за дальним, большим столом, съедают свой ужин, потом долго беседуют, шутят, посмеиваясь; в их разговор иногда вставляет слово-другое кто-нибудь из лежащих в палате поляков; а то еще оба санитара, поставив локти на стол и крепко сцепив ладони, меряются силой: обычно, к большой радости всей палаты
– и, само собой, к моей тоже, – Петьке удается одолеть гостя, хотя на первый взгляд тот сильнее; короче говоря, я понял, что они, Петька и Збышек, делятся здесь друг с другом и привилегиями, и бедами, и радостями, и заботами, и, по всей видимости, даже материальными благами, и пайком, то есть они, как принято говорить, закадычные друзья. Кроме Збышека, забегали к Петьке и другие люди, обмениваясь с ним парой торопливых слов, а иногда, быстро и с оглядкой, каким-нибудь предметом; я ни разу не видел, что это был за предмет, однако суть дела была мне ясна, и я их, само собой, легко понимал. Третьи же приходили – поспешно, крадучись, тайком – к кому-нибудь из больных. Посетитель на минутку присаживался на край кровати, кто-то даже клал на одеяло, смущенно, словно оправдываясь, маленький сверточек, завернутый в грубую бумагу. И потом – хотя я почти не слышал их шепот, а если бы и слышал, то вряд ли понял, – видимо, заботливо расспрашивали больного: мол, как идет лечение, есть ли сдвиги, – сами рассказывали: дескать, у них дела так-то и так-то, такой-то и такой-то велели кланяться и спросить насчет здоровья, обещали: как же, обязательно передадут привет тем– то и тем-то, и тут вспоминали: ах ты, пора уже, время-то как быстро бежит, и, похлопав больного по плечу или по руке: мол, не вешай нос, старина, мы будем забегать, как сможем, уходили, опять же крадучись, торопливо, но чаще всего с довольным выражением на лице, хотя вообще-то никакого иного результата, никакой ощутимой пользы, как я мог судить, от такого визита не было, и мне оставалось предполагать, что приходили они, видимо, лишь потому, что так полагается, ради нескольких слов, ради того, чтобы просто повидаться. При всем том, если бы я сам не догадывался, торопливость их ясно показывала: по всей очевидности, они совершают нечто запретное, что, как можно полагать, вообще осуществимо лишь благодаря попустительству Петьки и, скорее всего, при условии, что на все про все им хватит пары минут. Более того, подозреваю, и даже, обладая довольно большим опытом, не просто подозреваю, но прямо заявляю: сам этот риск, сама эта самонадеянность, сама эта, я бы сказал, дерзость – тоже некоторым образом неотделимы от каждого подобного посещения; во всяком случае, к такой мысли я приходил, наблюдая трудно определимое, но светящееся некой тайной радостью выражение на их лицах, выражение, какое бывает после успешного, оставшегося ненаказанным озорства; людям этим – казалось мне – словно бы удалось чуточку изменить то, что их окружает, пробить брешь в прочном, незыблемом укладе, расшатать однообразие будней, немножечко одолеть себя, а может, и самоё природу – так, по крайней мере, я это себе представлял… Но самых странных людей я увидел у постели одного больного, лежавшего далеко от меня, у противоположной перегородки. Больного этого принес на плече, еще утром, Петька; принес – и долго суетился возле него. Я догадывался, что случай, должно быть, тяжелый, и слышал еще, что больной – русский. А вечером посетители заполнили чуть не половину палаты. Тут было много букв «R», да и немало других букв; пришедшие были одеты в меховые шапки, странные стеганые, на вате, штаны. Я видел людей, например, с головой, наполовину покрытой нормальными волосами, а наполовину гладко обритой. И других, с шевелюрой, в которой точно посередине, от лба до затылка, тянулась выстриженная, в ширину машинки, полоса. Видел куртки и с обычной полосатой заплатой, и с двумя перекрещивающимися полосами, сделанными красной масляной краской, – так зачеркивают, например, на письме ненужную букву, цифру или другой какой-нибудь знак. У некоторых на спине горела, далеко видная, красная окружность, в центре которой стояла, зазывно, маняще, жирная красная точка, похожая на мишень, как бы обозначая: надо стрелять, если понадобится, вот сюда.