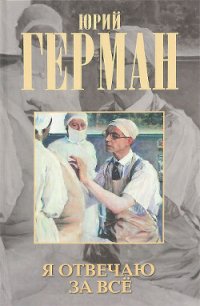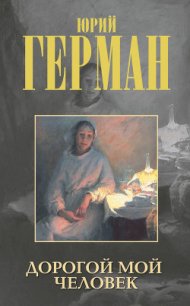Дело, которому ты служишь - Герман Юрий Павлович (книги онлайн полностью txt) 📗
– Почтение, Мария Владимировна, Акинфичу почтение, здорово, Петрунька, Лизавета Никаноровна, почтение!
Перекладывая тоненькую папироску языком из одного угла рта в другой, мужицким, дробным говорком рассказывал:
– Комнату вам подобрали с полным пенсионом незадорого, хозяйка славная старушка, некто Дауне – латышка, садовница на удивление, я у нее многому полезному научился. Молоко будете получать от больницы. Молоко вам, горожанину, у истоков жизни находящемуся, непременно надо пить в изобилии, до отвращения. Оно у нас идет по себестоимости – литр двадцать девять копеек. Анна Семеновна, привет и наилучшие пожелания! Заметьте, коллега, собор во имя Петра и Павла, о нем особо. Работы вам предстоит до чрезвычайности много, поэтому на питание обратите ваш взгляд. Семен Трифоныч, здравствуйте. Подчиняться коллега, будете исключительно мне, я певец единоначалия, бард его и величайший поклонник. Демократический централизм – великое дело...
Серый, в яблоках круп бойкой лошадки потемнел от пота, Богословский ловко кнутом подсек овода, заговорил про нонешний урожай. Володя пристально вгляделся в руки Николая Евгеньевича – уж не наваждение ли, разве бывают такие хирурги? Говорит гладко, бойко, взгляд необыкновенно лукавый, какое-то молоко по себестоимости, лошадью правит, словно потомственный кучер! Но руки, ах какие руки: огромные, широкие, сильные, покрытые рыжими веснушками, бог мой, что только можно делать такими руками! И вновь, то ли читая Володины мысли, то ли перехватив его взгляд, удивительный доктор сказал:
– Я от природы к тому же левша, дорогой мой коллега. Если недостаток врожденный использовать целесообразно и разумно, результаты окажутся весьма плодотворными. И против Колчака помогала мне левая рука, и в хирургии. К сожалению, никому не могу передать свой опыт по этой части. Если есть у вас знакомый студент-левша, пришлите ко мне, я из него отличного хирурга изготовлю...
Ехали полями. В голубом горячем небе пели тонкими голосами жаворонки. Рубаха на плечах Богословского пропотела, в воздухе приятно тянуло конским потом, пыльной дорогой, кожей, дегтем.
– Вот и «аэроплан» наш виден, – сказал Богословский, щурясь и показывая кнутовищем – извечным кучерским жестом – вдаль. – Бывшее имение господ Войцеховских. В империалистическую эти русские патриоты ничего лучшего не могли придумать, как построить при своей усадьбе госпиталь для пленных офицеров-австрийцев. Австриец, барон архитектор, построил вот это дикое сооружение.
Володя, тараща глаза, смотрел вниз – в долину. Здесь, среди высоких берез и лип, глупо и нагло выглядело здание, построенное в виде аэроплана, с крыльями, с фюзеляжем, с хвостовым оперением. И ночь в кабинете Полунина, его рассказ о Богословском вдруг так ясно вспомнились Володе, словно все это было только вчера.
– Пьете? – неожиданно спросил Богословский.
– То есть как это? – мучительно краснея, ответил Володя.
– А так – водку. Вы ведь при нашем знакомстве изрядно наклюкались, чем произвели на меня отталкивающее впечатление.
– Это случилось со мной один только раз в жизни, – сдавленным голосом сказал Володя. – Наверно, я не рассчитал или недостаточно закусывал.
– В психологию мы не будем вдаваться, – перебил Богословский. – Лучше вот глядите на наше хозяйство – отсюда, с откоса все как на ладошке. Нам пришлось в свое время расхлебывать фантазии глупого барона...
Тпрукая лошади и умело сдерживая ее на крутизне, он кнутовищем показывал Володе расположение больничных служб, подсобное хозяйство, молочную ферму, огороды, поселок.
У околицы шумела стайка ребятишек, веселилась со щенком. Время было послеобеденное, сонное. Тут уже все редкие прохожие кланялись Богословскому. Остановив лошадь у белого, чистенького домика под железной крышей, Богословский отпустил на своем сером подпругу, открыл уютно скрипнувшую калитку и сказал кому-то в глубину садика:
– Вот, Берта Эрнестовна, прошу любить и жаловать, Владимир, а по отчеству...
– Да просто Володя.
– Нет, не просто, – строго и даже жестко сказал Богословский. – Вас будут звать все только по имени-отчеству. И если наша Мария Николаевна – старая хирургическая сестра – назовет вас Володей, вы поправите ее. Поняли?
– Понял.
– То-то! Итак, Владимир...
– … Афанасьевич Устименко.
– Целиком, значит, Владимир Афанасьевич Устименко. Очень хорошо. А теперь пойдем посмотрим, как вы устроены.
Старуха Дауне, несколько робея, пошла вперед, открыла одну дверь, другую, пропустила жильца в его комнату. Пахло свежевымытыми полами, печеным хлебом, в открытых низких окошках, на сквозняке красиво вздрагивали цветущие крупными розовыми чашечками необыкновенные вьюнки. И сразу же появились ярко начищенный, шумно фыркающий кривобокий самовар, булки с тмином, варенье в прозрачной вазочке – удивительное, из ревеня.
– Ну как? – строго спросил Богословский.
– Великолепно! – ответил Володя.
– Деньги заплатите Берте Эрнестовне вперед за месяц, – так же строго продолжал Николай Евгеньевич. – И на молоко дадите – она вам будет приносить. Клопов и прочей живности здесь нет, ручаюсь. А теперь сядем и попьем чаю, я устал сегодня, оперировал и ночью не выспался – дважды вызывали в больницу.
Он сел, утер огромным, очень чистым платком лицо, шею, сам заварил своими ловкими руками чай, налил Володе послабее, себе очень крепко. Широкоскулое, лобастое, загорелое лицо его было задумчиво, сейчас оно казалось прекрасным – лицо русского мужика, редкостно здорового, и нравственно, и физически, человека.
Володя тоже молчал, наслаждаясь тишиной, ветерком, вкусным чаем, присутствием Богословского, не без гордости размышлял: «Вот ведь – сидит со мной такое удивительное создание, сидит и не торопится. Значит, и я ему чем-то интересен?»
Фиоретуры
Выпив вторую чашку и еще утеревшись платком, Богословский заговорил, не глядя на Володю, довольно угрюмо:
– Должен вас предупредить, Владимир Афанасьевич, по поводу одной частности. Парень вы смазливый, возраст у вас молодой. Насчет любви, влюбленности, вплоть до самых высоких материй и соответственных переживаний, приводящих со временем всех нас в отделы записей актов гражданского состояния, или как оно там называется, дело ваше. Но если вы, коллега, задумаете у меня в больнице с персоналом затеять...
И тут совершенно неожиданно, будничным, угрюмым и даже скучным голосом, Богословский завернул такую сочную и выразительную фиоритуру, что Володя даже оглянулся – нет ли поблизости старушки Дауне.
– Так вот этого, вышеизложенного, – опять интеллигентно продолжал Николай Евгеньевич, – я никак не потерплю и, буде замечу, а замечу, непременно, выгоню в то же мгновение и даже подводу до пристани не дам. В этом именно смысле утверждено за нашей больницей наименование «Богословско-аэропланный монастырь». Предупреждены?
– Предупрежден.
– Предупредил, простите, потому, что прецедент имел место. Теперь же перейдем к нашим делам.
Впоследствии, уже в зрелые годы, вспоминая двухчасовую эту беседу, Владимир Афанасьевич Устименко, человек не робкого десятка, покрывался тем, что в народе именуется «цыганским потом». Прихлебывая пятую чашку чая, поглядывая на Володю цепким, ласково-въедливым взглядом, Богословский атаковывал его таким градом совершенно неожиданных вопросов, так прощупывал со всех сторон его знания, так вдруг разъяренно наступал, так заставлял сомневаться в правильности своих собственных ответов, так переспрашивал и при этом посмеивался, таким потоком своего проклятого «ну, а если, допустим, к данным симптомам присовокупить» засыпал бедного Володю, что тот к исходу второго часа даже побледнел и почувствовал ту тошноту, которую испытывают начинающие верхолазы и новички-пассажиры в авиации.
– Устали? – спросил Николай Евгеньевич.
– Подташнивает что-то, – сознался Володя.
– Это вы за нашей беседой целую плошку варенья уплели, – заметил Богословский. – Тут не менее фунта было. Запейте чайком. Прополощитесь.