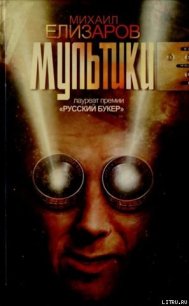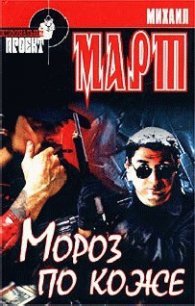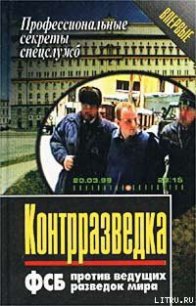Pasternak - Елизаров Михаил Юрьевич (читать книги без регистрации TXT) 📗
Через двадцать минут полностью обескровленное тело владыки покрыла желтизна, а торчащее из тела орудие его убийства сделалось бумажной мякотью коричневого цвета.
14
Цыбашев никоим образом не соотносил свою деятельность с особо жестокой формой экзорцизма, ибо в него не верил и называл пагубным заблуждением католичества. Православная Церковь утверждала, что священник, дерзающий с помощью особых молитв и ритуальных действий изгонять злых духов, подвергнет себя поруганию от них, как говорил преподобный Исаак Сирин: «Ибо ты выходишь учить тех, кому уже шесть тысяч лет. А твое дерзкое прекословие служит для бесов оружием, которым возмогут они поразить тебя, несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие».
Убийство врага на войне не было жестокостью, православному священнику или монаху церковь не воспрещала быть ратником.
Цыбашев тоже участвовал в войне, в которой не ждал для себя пощады. Сломленное православие все больше утрачивало возможность защищать себя и свое государство. Враг безнаказанно позволял все мыслимые кощунства на захваченной территории. Надежды на духовную преемственность не оставалось.
Когда-то у Византии нашелся наследник — Киевская Русь. Прежде чем наступила ночь христианского Константинополя и над Византией взошел мусульманский месяц, она передала свое духовное сокровище.
России уже некуда было нести свою веру. Во всяком случае, не в страшный Китай, готовый растворить в своей даосистской, конфуцианской и буддийской «царской водке» сусальное золото православия. Умирание России уже перестало быть чем-то абстрактным. Агония растягивалась на десятилетия, но конец был очевиден и прогнозируем.
Цыбашев всегда помнил слова святителя Игнатия Брянчанинова о людях, покушающихся немощною рукою остановить всеобщее отступление, и не мнил себя каким-то избранным защитником Церкви и страны. Он просто не желал смиряться с выкликами нелюдей о «гниющем трупе православия». Цыбашев не считал себя воцерковленным в трупе. Речь не шла о жестокости. И просто имелся предел милосердия и всепрощения.
«Пастернак», оболочка языковой вседозволенности, лаковой бессмыслицы и рифмованных пересказов Евангелия, стал общим знаменателем с длинной поперечной чертой, поверх которой должно было хватить места всему, на духовность претендующему. Демонический знаменатель литературного сектантства держал на своих плечах все родственные числители, уже не имеющие к литературе никакого отношения. Разумеется, стихи и тихий как омут роман о Докторе были нужны далеко не каждому. Но во все времена именно почитатели оболочек приставлялись кроить культуру страны. И работали они, даже того не желая, по эскизам, создающим наготу, на которой легко поселялись паразиты с ярлыком «Духовность», разрушающие единственно истинную духовность для России — православие. На одурманенную оболочками душу легко ступал враг: буддийский лисоглазый Тибет, Космический Разум — Люцифер или ньюэйджевский Заратустра — сверхчеловек в латексовом черном костюме нетопыря.
Копия из окаменевших книг подобно ключам отпирали вход в демоническую клоаку, в эту смрадную Шамбалу, всасывающую обратно то зло, что из нее когда-то вытекло — как больший магнит притягивает к себе мельчайшую магнитную крупицу.
Цыбашеву виделся в этом особый смысл. Ибо говорилось в главе двенадцатой Евангелия от Матфея: «Фарисеи же сказали, он изгоняет бесов не иначе как силою Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его».
Вскоре Цыбашев заметил еще одну важную особенность. Обезвреженные «Пастернаком» словно вырезались из памяти внешнего мира. Их гибель не вызывала резонанса. Достаточно было устранить главного носителя «духовности», и бесовская опухоль, лишившись основного цементирующего компонента, рассасывалась.
У Цыбашева был свой приоритет врагов. Он пока не обращал внимания на откровенные сатанинские группы — те не скрывали своей направленности, их в случае чего легко можно было найти. Честным врагом был ислам, явно враждебным, и поэтому не таким опасным.
В первую очередь опасен был скрытый враг, набросивший на себя содранную кожу христианства: прикрывшиеся православием колдовское знахарство и лжестарчество; словно бесы, орущие на все голоса из одержимого тела протестантизма, — многочисленные секты евангельских христиан-баптистов, лживые свидетели распятия Христа на столбе — иеговисты, сайентологи, уже не книжные, а вполне реальные, со вставными карнегиевскими улыбками мормоны; были поклонники узкоглазого корейского лжехриста Муна и, наконец, отечественные теософы.
Цыбашев совершил немало карательных рейдов. Из врагов, не маскирующихся под христианство, ему пришлось умерить миролюбивых поклонников синюшного божка, напомнив слова гуманнейшего Свами Прабхупада о кришнаитском понимании принципа ненасилия: «Любой человек, действующий в сознании Кришны, даже убивая, не совершает убийства».
А в центр паучьей гимнастики и сводящей с ума медитации — йоги, с липким названием, похожим на прокисший восточный лукум, Цыбашев наведался уже не один. У его труда появился напарник, и вдвоем они разнесли индуистское логово и раздавили главного паука.
Батя раньше на дни рождения мне ничего не дарил. Всегда матушка что-нибудь покупала, только делала вид, будто подарок от них двоих: «Вот тебе от мамы и папы», — и давала какого-нибудь зайчика или грузовичок, а потом говорила, чтобы я шел на улицу играть.
За стол меня не сажали, там сидели батины и матушкины гости. Так даже лучше было, мне все равно оставляли полбутылки ситро и кусок торта. Это пока я совсем маленький был, а потом мы стали беднее жить и мне перестали игрушки дарить.
На восьмилетие я ничего не получил и обиделся, конечно. Батя тогда меня к столу подозвал и сказал: «Вот я тебе решил сделать подарок, ты уже взрослый и можешь говорить вслух слово „блядь“, и я тебя за это не накажу».
Матушка тут же выступать начала, я ей и сказал: «А ты, блядь, не лезь». Не в том смысле, что матушка — блядь, а в том, чтобы она не лезла.
Батя ремень из-за пояса рванул, а нельзя — подарки не отдарки. Гости ржать начали, батя обрадовался тоже, что всех рассмешил, и сам начал меня подзадоривать. Я им до ночи вокруг стола бегал и «блядь» выкрикивал, а они смеялись, и матушка тоже.
С тех пор, если я с плохим настроением из школы приходил или, допустим, спотыкался, то мог безнаказанно вслух «блядь» произносить.
А однажды навернулся локтем о дверь в коридоре и по-другому выругался. Батя как пес из комнаты выскочил, заорал, что я еще не дорос этими выражениями ругаться, и таких навешал мне, что я неделю на животе спал.
Помню, девять лет исполнилось, батя опять меня к столу позвал и при гостях заявил, что разрешает мне «ебаный в рот» говорить — вспомнил, что я именно это сказал, когда в коридоре локтем треснулся.
Матушка, наученная прошлым результатом, ничего не возразила. Батя специально на нее посмотрел и спросил, чего она теперь не вмешивается, а матушка взяла и на кухню свалила.
Я думаю: ну все, в следующий раз батя ничего не подарит, и без всяких приглашений вокруг стола бегать начал и «ебаный в рот» кричать.
А тут и матушка из кухни прибежала ругаться. Ну, я тогда и про «не ее, блядь, ебаный в рот, дело» выдал.
Гостям сделалось весело и бате тоже — юмористом себя почувствовал. Он, чтобы как в прошлый раз было, за ремень схватился, ты как, мол, с матерью говоришь, а потом руками развел: «Все, сын, имеешь право!»
Это «ебаный в рот» батя очень вовремя подкинул. Мне ведь тяжеловато приходилось. В школе я много чего выучил и говорил когда хотел, а дома — разрешенное. Каждую минуту себя контролировал, чтобы лишнего не сболтнуть — как разведчик. Такая двойная жизнь очень выматывала.