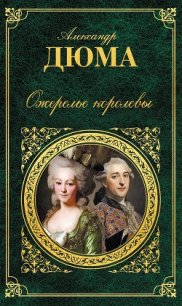Ожерелье Мадонны. По следам реальных событий - Блашкович Ласло (читаемые книги читать онлайн бесплатно TXT) 📗
Но все не так просто, не все шло как по маслу, потому что и эти двери заколдованные (сказано без всякой связи), я мучаюсь со сломанным замком, не знаю, в чем фокус… И тогда руками, судорожно сведенными от отчаянья и фрустрации, надо ручку со страшной силой расшатать, пока она, скрипя, не поддастся, а тот сопутствующий грохот стекол, разболтанных до основания, прибежавшему хозяину надо объяснить, и самому разыгрывая удивление, что дело в перепуганной птице (может, сбежавшем попугае!), ни с того, ни с сего налетевшей на окно, как в кино, правда, хорошо, что окно осталось цело. Еще можно, чертя пальцем в воздухе зияющую пустоту, засмотреться в пустое небо вместе с недоверчивым хозяином, который больше смотрит на нас, чем на кроткие облака.
Наконец, когда человек, оглядываясь, все-таки вернется на кухню, оставляя за собой открытые двери, следует решительно вырваться на балкон, пробиться между мешками с мороженой картошкой и чувствительным старым луком, быстро раздвинуть глиняные горшки, из которых вырастают только дыры (как взыскателен глаз в такие моменты!), взобраться на голландский сундук, за решетками которого просматривается что-то живое (это нас почти остановит!), а потом перебросить ногу через перила (старомодный трюк!) и, не обращая внимания на человека, который кричит, обещая не жалеть кофе, из чашки с которым выныривает вершина сахарного холма, на собаку, умолкнувшую, прикусив собственный язык, на весь мир, остающийся за нами безвозвратно и излишне, выброситься в разреженный четырнадцатиэтажный воздух, который вдыхают только стюардессы, когда прыгают, и ангелы, когда падают; броситься с криком, с выпавшим частичным протезом.
Знаю, знаю, не четырнадцатый, а всего лишь четвертый, не такой уж я путаник, вот что делает строгая форма, какую создает проблему. Ну, что есть, то есть, надо ограничить себя, разобраться.
Когда я на досуге рассказывал обо всем этом нашему тюремному доктору, как будто пересказывая сон, он объяснил, что ни один прыгун не умирает от удара о землю, потому что, пока он еще летит, у него разрывается сердце, как высоко взятая нота до. Но я знаю и другие истории (только умнее не слишком спорить), здесь можно легко использовать ту, про жизнь, которая на этих последних метрах пролетает вся, как фильм, или же об известной возможности для сосредоточенного самоубийцы зафиксировать, что происходит за окнами, мимо которых он пролетает, как метеор, опять-таки что-то вроде засвеченной размотанной пленки с последовательными жанровыми сценками, запоздалым визгом повседневности. Это что, птица? Космический кораблик? Супермен? Катапультированный человек-снаряд? Божественная перхоть. Нет. Это больше не я.
Долгими тюремными, больничными, аутическими — как вам угодно — днями и ночами я разрабатываю свой провальный план, самую яркую из всех возможных версию: скажем, несчастного хозяина, который пытается воспрепятствовать воплощению нашего замысла, увлекаем за собой, и он падает на асфальт перед машиной, которая не успевает остановиться. Но шофер, оправдывающийся перед очевидцами и полицией, мертвецки пьян, это чувствуется на расстоянии, пока нас заталкивают в карету скорой помощи, потому что мы еще чуточку живы, правда, парализованные, с переломанными конечностями и без сознания, — мы, о ирония судьбы, рухнули на откидную крышу кабриолета, той самой машины, водитель которой объясняет свою невиновность с мимикой пьяницы из немых бурлескных комедий, с перевязанной головой, поскольку и сам получил по башке от неудавшегося самоубийцы. В результате все оказываются в местной тюремной больнице…
Не можете поверить? Говорите, эта сказка настолько скучна, насколько и невероятна? Думаете, из стольких смешных смертей не может проклюнуться ничего живого? Послушайте, буду совершенно искренен, ваш драгоценный супруг заставляет меня сочинять подобные истории, в порядке дурацкой терапии, в процессе реабилитации, как очную ставку с виной, да еще хочет эту бредятину по-ста-вить! И вы мне теперь говорите, что я деструктивная личность, асоциальный тип, и как я могу позволить Андреутину Стриберу, эксперту по ничтожествам, режиссировать мои жизненные ошибки, как будто он священник, или, по меньшей мере, мой старый папочка! Да, да, легко мне, но…

Алло, заскрипел вдруг в домофоне голос (а я уж было отказался от своей затеи), кто там, послышалось вновь. То ли где-то провод замкнуло, или это женский голос? Я знаю, что вы не знаете, я спрашиваю ради атмосферы. Вы уже догадались, что это не мой знакомый.
Честно говоря, я всегда был одиноким дикарем.
Однажды там, в «Форме», я целых несколько минут завидовал музыкантам, спустившимся в нижний мир после концерта в ближайшем зале, я слышал, как они говорили об этом Рэду, который отпер и недоверчиво приотворил двери, поскольку вечернюю зорю уже давно сыграли, полицейский час, Байройт закрыт, и только над нашим столом крутилась, как терпеливый стервятник, замызганная лампочка. Только выпьют немного, уверяли они его, пройдя благодаря узнаваемым лицам или пятерке, скользнувшей в карман, и заказывали они шепотом, как будто вторглись в чужое имение, вошли в ограбленную церковь.
В них не было ничего особенного, кроме печати приятной усталости после хорошо сделанной работы, и я бы отвернулся от них совсем, потому что и без того боюсь музыки (наверняка меня ею пугали в детстве, призывая к порядку), когда один из музыкантов, отерев пену со рта, заметил в тени глубоко засевшее пианино, и с улыбкой указал на инструмент, как бы движением бровей испросив разрешения, на что Рэд, за стойкой считавший выручку, пожал плечами. Тот сразу подвинул стул, поднял крышку. Тогда они один за другим встали и тихо присоединились к пианисту. Blue moon. Печальная луна. Голубой порнографический лунный свет.
И увидев, как они после двух потных часов изнурительного музицирования продолжают наигрывать и напевать, улыбаясь друг другу, реагируя на комичные жесты, как разговаривают вместе, сопрягают голоса, освещенные маленьким, едва заметным счастьем, я почувствовал свое страшное, свое невыносимое одиночество. Я посмотрел на людей, сидящих за моим столом, страдающих от такой же боли. Мне другие писатели нужны только, чтобы было с кем напиваться, подумал я, и эта истина вызвала у меня горькую улыбку. Потому я едва и припоминаю с тех пор этого Андреутина. Потому мои старые друзья так легко оборачиваются бабами.
Кто там, — опять догоняет меня голос из домофона, хотя я уже отступился. Хотел было сказать, простите, я ошибся, но меня опередил вопрос: Ладислав, это ты? — И я услышал долгий, режущий уши звук, означавший, что дверь открыта для знакомого.

Не смотрите на меня так, я не пытаюсь быть сверхъестественным. Помните Анну, тетку Наталии, о которой я вам рассказывал? Мою переводческую дублершу, каскадершу с недреманным оком? Какие у нее были великолепные ложечки! Как только вспомню их… Ох, бабка, вскрикнул я от счастья, ты станешь моим Раскольниковым! И я как на крыльях взлетел вверх по лестнице, сжимая подмышкой папку с рассказами, которые тоже запыхались.
Тишина, — рявкнул надзиратель, — кончай базар. И, век воли не видать, сначала мост рухнул в реку, и только потом донесся гул взрыва.
Который рухнул? — гадали заключенные, толпясь у окна с решетками. И я спросил, не обвалился ли тот плагиат, который проектировщику, якобы, приснился, и проснулся он просветленный, озаренный, вдохновленный, сел за стол, как уполномоченный стенограф Бога, триумфально продемонстрировал комиссии свои небесные врата, чтобы потом выяснилось, что он, скорее всего, бессознательно заглядывал в эскизы коллеги, после чего авторитарно продиктовал пианисту чужую мелодию, которую в полусне услышал по радио. Но зачем мосту оригинальность, нетерпеливо подкалываете вы меня, разве можно возвести своды из насвистывания военного марша к фильму «Мост через реку Квай», разве несущие пилоны не должны быть похожи на короткие основательные ноги старой девы?