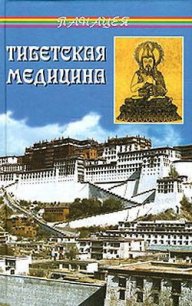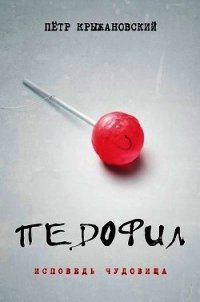Полюс Лорда - Муравьев Петр Александрович (книги онлайн полностью бесплатно txt) 📗
Откровенно говоря, я не испытывал обычной в таких случаях гордости. В тот самый момент, когда такое чувство и могло зародиться, мне вдруг приходила мысль о случайности и… непрочности моей удачи. Все мое счастье было составлено из странных неправдоподобных элементов, случайных обстоятельств и психологических несуразиц, перевязанных тонкими тесемками в хаотический клубок, разобраться в котором мне никак не удавалось. Концы тесемок свисали по сторонам, и казалось, потяни я неосторожно за любой, все сооружение распадется.
Я не обманывал себя относительно моих возможностей. Я не был миллионером и не мог помышлять о дворцах. Единственное, что перепало мне от этого «сказочного» мира, был отцовский «кадиллак» – громадная светло-зеленая, с темной крышей машина, не без роскоши отделанная внутри. Отец заплатил за нее двадцать с лишним тысяч и хоть списал эту цифру в расход фирмы, однако немало покряхтел потом над «безумной» покупкой. Тогда я, помнится, всласть посмеялся над ним, теперь же… теперь был признателен ему за предусмотрительность.
ГЛАВА 17
Странно складывались мои отношения с Салли. Где-то этого следовало ожидать. Начать с того, что одиночество свалилось на нее неожиданно. Маленькая и хрупкая, не привыкшая к самостоятельным решениям, она чувствовала себя без мужа затерянной в большом молчаливом доме, оживлявшемся только в мои приезды или редкие наезды тех немногих друзей, какие у отца сохранились. Я говорю – немногих, потому что отец не принадлежал к числу людей, вокруг кого образуется общественная среда. Для этого он был слишком неровен в отношениях: то ненужно чувствителен, то неоправданно заносчив. Даже удачливость в делах, красивый дом и внешнее гостеприимство не помогли отцу завоевать расположение кругов, к каким он с давних пор тянулся. Там к нему относились как к выскочке, настороженно, с плохо скрытым недоброжелательством. Отец это чувствовал, хандрил и со свойственной ему несдержанностью открыто поносил своих мнимых врагов. Он называл их дураками, что было несправедливо, и ничтожествами, что было ближе к истине, хотя самые пороки этих людей, составлявшие их ничтожество, вызывали в нем тайную зависть. Ко всему тому он был упрям и непоследователен: с демократами вел себя как республиканец, в спорах с республиканцами становился демократом. Охотно обличая чужие предрассудки, он великодушно разрешал их себе, причем большие, постепенно развивая в себе какую-то ожесточенную мнительность. Будучи эгоцентриком, отец, однако, не был эгоистом, и по природе своей не чужд был человеколюбия, но этот своеобразный альтруизм при столкновении с людьми и явлениями, которых он не понимал или отказывался понимать, оборачивался скептицизмом, а со временем – мизантропией. Поэтому даже его завидное острословие, не украшенное благодушием, частенько отдавало воркотней.
Все это, естественно, не содействовало его популярности, и дом, как я уже заметил, пустовал.
Теперь к этому прибавилось другое. Между мною и Салли установилась непривычная недоговоренность, стеснявшая обоих. По-видимому, слить воедино счастье с несчастьем – такая же непосильная задача, как смешать огонь с водой; из такого эксперимента только и может произойти «пуф!» – облачко пара, наподобие того, что выходит из клокочущего чайника. Как ни жалел я мою маленькую подругу, как ни старался ее утешить, я постоянно ловил себя на том, что выходит это у меня неестественно, с потугами. Иногда, стряхнув ощущение отчужденности, я пытался заговорить с Салли запросто, но на второй фразе спотыкался; меня тут же пугала мысль, что искренность вынудит меня на объяснения, сейчас неуместные. Теперь я окончательно понял, что отношение Салли ко мне всегда оставалось для меня загадкой. Было ли это настоящее чувство или… жалость?…
По-прежнему, дважды в неделю, мы вместе навещали отца в больнице. Он был плох, и, несмотря на заверения врача, во мне укреплялось предчувствие близкой развязки.
И все-таки, когда однажды Салли позвонила мне на службу и срывающимся голосом начала: «Алекс!… Алекс!…» – я хоть и сразу сообразил, в чем дело, но растерялся от неожиданности. Дело в том, что за последние дни в состоянии отца наступило улучшение. Он выглядел бодро, шутил и раз даже съел, правда морщась, тарелку супа и пюре. Салли кормила его с ложки и, довольная, поминутно хвалила, как капризного ребенка, что ему, повидимому, нравилось.
А вчера он впервые принял Кестлера. Не знаю, о чем они толковали – мы с Салли нарочно вышли, – но, вернувшись, я был поражен видом отца. Что-то мягкое и смущенное проступало у него в лице. Кестлер сидел молча, понурившись. Увидев меня, отец улыбнулся и, показывая глазами на гостя, принялся шутить:
– Послушай, что он говорит! По его мнению, не будь либералов, мы ходили бы без штанов.
Кестлер поднял голову и рассмеялся:
– Я этого не сказал, Жорж. Я только заметил…
– Ладно, – не унимался больной, – все вы одним миром мазаны. Ну, а скажите-ка, кто придумал обезьяну?
Кестлер развел руками.
– Либералы – вот кто! – сам же ответил отец и, довольный своей остротой, мелко засмеялся…
Так обстояло вчера, а сегодня…
– Алекс!… – Салли продолжала глотать воздух.
– Что случилось? – И так как она не отвечала, а я все понял, я быстро закончил: – Сейчас приеду! Возьми себя в руки, слышишь?!
Отца не стало. Первые дни я не отходил от Салли. Теперь я поражался, как глубоко она любила покойного. И это же открытие приводило меня в недоумение: я вспоминал всегдашнее беспокойство отца. Как мало знали они друг друга!
В доме поселилась серая пустота, усугублявшаяся странной невесомостью вещей, какая обычно наступает, когда нарушен закон взаимного притяжения – между обитателями и окружающими предметами.
Как-то, утомленный установившейся неподвижностью, я вышел в сад. Стоял яркий солнечный день, и белки, ничего не подозревая о происшедшем, неугомонно носились по траве и деревьям.
Розы были наводнены жучками. Я срезал с дюжину цветков и, вытряхнув непрощеных гостей, понес букет в гостиную.
Увидя цветы, Салли расплакалась.
– Это его любимые… – начала она, но остановилась. Маленький бронзовик вылез из цветка и, расправив крылья, полетел к окну.
С кладбища мы поехали домой. Нас было в машине пятеро: Салли пригласила к обеду падре Томаса, а также Кестлера и Ветольди, старого знакомого отца, хотя и редкого у нас гостя. Браунов не ждали – они были в отъезде.
Ветольди был пожилой джентльмен, приятный и умный, хотя и несколько противоречиво устроенный. Отца он любил, Салли жалел, а ко мне относился покровительственно. Никто хорошенько не знал, чем он занимается, потому что службу и специальность он менял множество раз: служил в банках, был страховым агентом, пытал счастья в биржевых операциях. Ничто не приносило ему удачи, да и сама удача не доверяла его постоянству. Это отнюдь не мешало ему верить в свою звезду; он не падал духом и охотно поучал других, как добиваться жизненных успехов. Полный, с гладким моложавым лицом и пышными актерскими бровями, он умел вызвать доверие у людей, плохо его знавших, особенно когда обращался к ним с привычной фразой:
– Вы же человек практический и не можете не видеть… – Или:
– Как умный человек, вы согласитесь… – И умные практические люди зачастую соглашались с ним там, где посторонний слушатель усмотрел бы опрометчивость суждений.
Падре Томас был человек иного склада. Уже старик, умный и внимательный, сухой и строгий на вид, но в душе добряк, он отпускал грехи с тем великодушием, какое дается мудрецу, давно осознавшему неисправимость человеческой природы. Эти качества снискали ему всеобщее расположение, а Салли, состоявшая в его приходе, боготворила его и часто, возвращаясь по воскресеньям с мессы, с восторгом рассказывала о «добром старом падре».