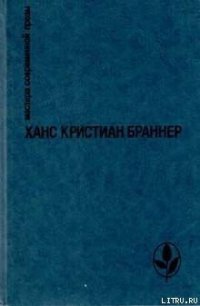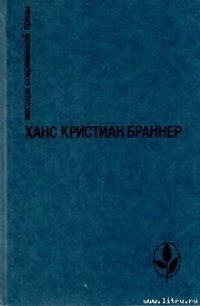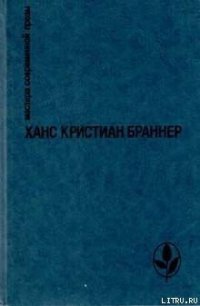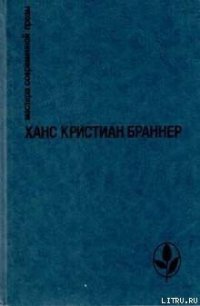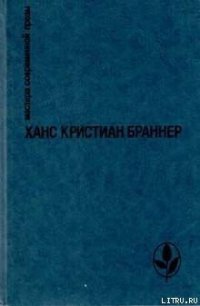Никто не знает ночи - Браннер Ханс Кристиан (читаем книги .txt) 📗
Дыхание стало ровнее, хрипы мало-помалу стихли. Смерти срок еще не подошел, но ждать оставалось недолго. Томас знал, скоро она придет. Близость смерти была – как знак ему от Габриэля. Она создавала сферу глубокой доверительности между ними, но, вопреки ожиданиям, не ощущалась как нечто мрачное или угрожающее, скорее она витала в воздухе, как незримая улыбка. Томас, кажется, никогда в жизни не был так близок с другим человеком. Он увидел многое, что прежде было от него сокрыто. Спавшийся беззубый рот горько сжат, как у доведенного до отчаяния ребенка. В морщинах вокруг глаз, не спрятанных сейчас за роговыми очками, – такое же выражение простодушного детского горя. Темная шевелюра и пышная черная библейская борода светятся у корней снежной белизной. Габриэль красит волосы и бороду. Томас впервые это обнаружил и не мог не улыбнуться, рука его невольно потянулась погладить эти старые седые волосы, которым так хотелось прикинуться молодыми, погладить это комически старое детское лицо. Он передумал, рука остановилась на полпути, вместо этого он нагнулся и поцеловал Габриэля в лоб. Скоро, очень скоро, подумал он и почувствовал прилив глубокой нежности.
Его поцелуй словно пробудил лицо умирающего к новой жизни, оно вздрогнуло, оно мелко задергалось. Томас улыбнулся и шепотом позвал Габриэля, он ждал от него ответной улыбки. Но не улыбка была ему ответом. Лицо омрачилось и стало медленно собираться в морщины, раздался слабый стон. А за ним последовал плач, едва слышный, как плач ребенка, который проплакал так долго, что нет больше голоса, нет больше сил плакать. Томас невольно улыбнулся, ведь он уже столько времени вслушивается в тихий, полный отчаяния плач. В этот миг он прорвался из глубины наружу всхлипом в устах умирающего, дрожью на умирающем лице, но он и раньше был, он слышался все время. Он слышался за всеми экивоками и вывертами Габриэля, за серебряным колокольчиком голоса Дафны с ее пустыми словечками, за фальшивыми ужимками записного любовника Феликса, за торопливой пляской излияний бедной Сони. Всю ночь он сидит и вслушивается в него, и не только эту ночь – много ночей, все ночи, начиная с самого детства. Плач прорывался сквозь голос его матери – впервые в жизни он встретился с ним, когда лежал у нее на руках и смотрел в скорбное лицо женщины с жестким ярко накрашенным ртом. Ну а кто он сам, Томас, который сейчас сидит и утешает умирающего, – не женщина ли он со своим новорожденным на руках? Мысль была настолько нелепа, настолько противна всяческому смыслу, что он и ей невольно улыбнулся. Мысль отразила его улыбку, послав ее обратно, – улыбку за пределами всяческого смысла. Нежность его становилась все сильней, она росла и ширилась безгранично, обращаясь в нежность ко всему живому, в женскую нежность за пределами всяческого разумения. Воцарилась тишина, все вокруг вслушивалось, улыбаясь, в этот безутешный плач, в котором было столько счастливого комизма, который был воистину полной бессмыслицей, потому что он вовсе не был безутешным. Ведь достаточно ласкового прикосновения, чтобы его унять.
Он положил руку на лоб Габриэля, и плач после нескольких судорожных вздохов прекратился, лицо разгладилось и стало спокойным и мягким. Вокруг стояла полнейшая тишина, он, Томас, единственный из всех не спал. Он улыбался, он знал простую самоочевидную истину и лишь слегка печалился от того, что не узнал ее раньше. Теперь было слишком поздно. В глубокой сонной тишине, объявшей дом, произошло то, чего он давно уже ждал. Он почувствовал это по боли, внезапно пронзившей его руки. Настал тот миг, когда он должен встать и уйти.
Томас поднял голову. Он задержал дыхание и прислушался. Вот и все, подумал он.
…Вот и все, поднос упал. Град блестящих осколков посыпался вниз по лестнице и разлетелся по всему полу. За ними с громыханьем покатился колесом большой круглый поднос, он прыгал со ступеньки на ступеньку, а потом, подребезжав, улегся плашмя. Одна из женщин уронила на пол стакан, и он тоже разбился, запоздало тренькнув, а она стояла, выпучив глаза и прижимая кулак к широко разинутому рту. Зрелище было такое невообразимо комичное, что Симон рассмеялся бы, если бы не внезапная непредвиденная помеха – его собственный крик, перекрывающий шум, и грянувший одновременно выстрел. Это он? Действительно вьющийся из дула пистолета. Ну хорошо, выстрелил, но это же просто предупредительный выстрел, дырка вон она, посредине потолка, известковая пыль еще оседает на пол мелкими снежными хлопьями. Он никого не ранил. И нет ни малейшего основания для этого смехотворного переполоха. Маленькая черно-белая мадонна на лестнице воздела обе руки к небу, лицо ее начало медленно кривиться и постепенно превратилось в утратившую человеческие черты маску, в которой зияла черная дыра рта. И раздался вопль. Она не должна так вопить, надо остановить ее, заставить замолчать! Он во второй раз услышал собственный громкий голос, но слишком поздно, вопль уже вознесся к потолку, он возносился выше и выше, заполняя собою весь спящий дом. «Дьявольщина!» – заорал он и поднял пистолет, поднял и опустил, снова поднял и снова опустил, он поднимал и опускал его до тех пор, пока не забыл обо всем на свете и только вслушивался в этот вопль, который никак не смолкал. Его невозможно было остановить, он отъединился от слепой белой маски с зияющим черным ртом, давшим ему жизнь, он уже жил сам по себе, он нарастал сам по себе и, обретая в пространстве зримый образ, бешеной спиралью, неистовым вихрем взвивался ввысь, в пустоту, увлекая за собою все, что попадалось на пути. Как будто мертвые камни и живые уста разверзлись и возопили, исторгли песнь, как будто мощный многоголосый хор в экстазе и муке возносил мольбу, неумолчно взывая к небесам, по мановению рук маленькой жрицы. Симон стоял немой, оцепенелый и вслушивался, не в силах шевельнуться или двинуться с места. И не было этому ни начала, ни конца. Это длилось вечно…
Томас тихо сидел и вслушивался в отдаленное подземное громыханье. Вот грянул выстрел. А потом раздался наконец вопль, которого он все время ждал.
Он поднялся с кресла и постоял, держа на руках умирающего. Грузное тело больше не казалось тяжелым. Он отнес его на узкий диван у стены за камином и, не торопясь, уложил поудобней. Осторожно подсунул под голову подушку и соединил обе руки на груди, пощупал пульс и послушал дыхание. Вопль, доносящийся снизу, немного мешал ему, но нисколько не пугал. Он был такой, каким и должен был быть, пронзительно монотонный и совершенно бессмысленный. Всю ночь Томас слышал, как он приближался, и лишь по чистой случайности он в этот миг прорвался наружу из уст некой женщины.
Он бросил последний взгляд на бледное лицо на подушке и неспешным шагом двинулся через просторную комнату, в обход столовой, к черной лестнице, ведущей в кухню. В буфетной девушка-подросток стояла как столб. Томас мимоходом кивнул, в голове мелькнуло, что он никогда ее раньше не видел. Слышно было, как наверху, у него над головой, дом просыпается, наполняясь лихорадочной панической суетой: хлопали двери, раздавались громкие голоса, топот торопливо бегущих по коридорам и лестницам ног. Потом все звуки поглотил приближающийся снизу вопль.
Они сходились со всех концов большого особняка и толпились в холле, они прибегали бегом и звали, спрашивали громкими испуганными голосами – но внезапно затихали при виде умирающего человека на диванных подушках.
– Кто?… Это он?… Он застрелился или?… – неуверенно, с запинками выговорил женский голос. Никто не ответил, вопрос повис в тишине. Снизу долетал вопль. О нем никто словом не обмолвился. Они подступали ближе к неподвижно лежащей фигуре, но останавливались на расстоянии трех шагов и теснее придвигались друг к другу, они были похожи на толпу потерпевших кораблекрушение в своей случайной разномастной одежде: в вечерних туалетах и нижнем белье, в шлафроках и кимоно. Кто-то спросил про доктора Феликса. Головы завертелись из стороны в сторону, глаза торопливо оглядывали окружающих, но его нигде не было видно. Движение замерло, безмолвие вновь опустилось на них. Они избегали смотреть друг на друга. Вопль все никак не смолкал, монотонный, как вой неукротимой сирены во тьме ночи.