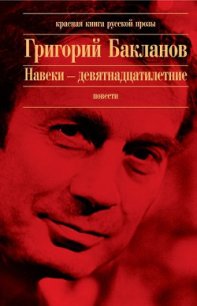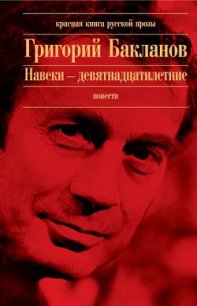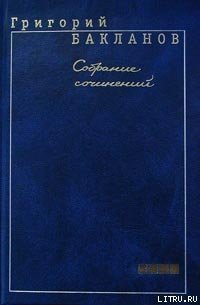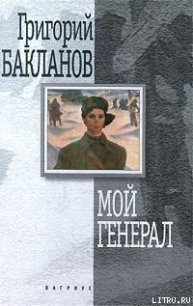Навеки — девятнадцатилетние - Бакланов Григорий Яковлевич (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью TXT) 📗
Чьи-то трясущиеся руки мешали снять замок. Насрул-лаев. Детски ласковые, бесстрашные глаза преданно глянули на него.
— Беги, Эльдар!
Прижав тяжёлый замок к животу, Насруллаев выглянул, побежал.
Паравян сидел на земле. Лицо облито слезами и потом, тусклый блеск меркнущего зрачка. Стоя на коленях, весь напряжённый, Третьяков сыпал в карман шинели автоматные патроны. Наверху стукали выстрелы. Накинул на шею ремень автомата. Пригибаясь, выскочил из окопа. По всему полю бежали люди. Озирались на бегу, падали, вскакивали, бежали. Бронетранспортёр сбоку налетел на Насруллаева. Тот бросил замок, помчался, выгибаясь. Трассирующая очередь срубила его. Распластанный, он ещё пытался встать. Третьяков не видел, как его накрыло гусеницей, но крик его нечеловеческий полоснул по сердцу.
Он бежал под пулями, задыхался, чувствовал, как слабеют, отнимаются ноги. Воздуху не хватало. В глазах темнело, плыло, и манил, тянул к себе свежий клин снега. Под конец уже не бежал, шёл на подгибающихся ногах, всасывал в себя воздух обожжёнными лёгкими. Упал лицом в снег. Рёв мотора с неба мчался на него.
ГЛАВА XXVI
В великом весеннем наступлении 1944 года, развернувшемся на юге Украины, немецкий контрудар в районе Апостолово ничего уже не мог изменить — ни хода войны, ни хода истории. Он только временно замедлил наступление на этом участке и ничего не значил в масштабе происходивших событий. Но у людей, которые отражали этот нацеленный на них удар, была у каждого одна, единожды дарованная ему жизнь.
Необычайно ранняя весна за месяц до срока превратила зимние дороги в чернозёмные топи, тяжёлая техника тонула в них, увязали машины со снарядами, тылы растянулись на полтысячи километров, и горючее, которое везли к фронту, сжигалось на дорогах. Но подтянули артиллерию, подошёл танковый корпус, погнал прорвавшуюся группировку, и те же самые немецкие танки и бронетранспортёры, которые прошли через огневые позиции артиллеристов, расстреливая и давя живых, теперь, подбитые, сожжённые и целые, увязшие в грязи, брошенные, стояли по полям.
На третий день хоронили погибших батарейцев. Снег стаял совсем, только в низине и у посадки, куда зимой намело его ветрами, сохранились грязно-серые клочья. Блестели на солнце лужи, и среди них по всему полю лежали убитые. В шинелях, впитавших в себя воду, в мокрых ватниках, окоченелые, лежали они там, где настигла их смерть. Пахотное поле у хутора Кравцы, на котором из года в год сеяли и убирали пшеницу и куда каждую осень выгоняли на стерню гусей, стало для них последним в жизни полем боя. И живые, ос-кользаясь по жирному чернозёму, с трудом вытягивая из него сапоги, ходили, разыскивая и узнавая убитых.
Недалеко от посадки, метрах в двухстах пятидесяти от того места, где сам он упал в снег и где последняя пулемётная очередь прошла над ним, разыскал Третьяков Насруллаева. Тот лежал в облепленных пудами чернозёма сапогах, раздавленные ноги были неестественно вывернуты. Лежал он навзничь, ватник над оголённым жёлтым животом сбился к подбородку, кисть руки, которой он в последнем усилии заслонил глаза, закостенела над ним на весу и отражалась неподвижно в спокойной снеговой воде лужи, по которой скользило белопенное облако. Как он кричал тогда! Тёмная раковина мученически оскаленного рта, казалось, и сейчас хранит немые отзвуки того крика.
А впервые Третьяков увидел его, когда принимал взвод, и запомнил с того раза. Бойцы, голые по пояс, рыли щели за хатой, и среди облитых потом, лоснившихся на солнце тел заметно выделялся Насруллаев, могучий, как борец, грудь по самое горло заросла чёрным волосом. Попалась ещё в списке фамилия Джедже-лашвили, и Третьяков почему-то подумал, что это он и есть.
В орудийном окопе, между раздвинутых станин, спиной опершись о станину, сидел Паравян, голову без шапки уронил на грудь. Со стриженого затылка к уху — засохшая полоса крови. Значит, был ещё жив, кто-то из немцев, зайдя сбоку, дострелил его.
Девятнадцать человек подобрали на поле и похоронили у Кравцов. Лаврентьева среди них не было. Многие видели, как падал он, запрокинувшись, хватая себя руками за спину. Может быть, жив был и немцы угнали его в плен. Дострелили где-нибудь по дороге, когда на них нажали. Всю войну пробыл он в противотанковой артиллерии, радовался, что после госпиталя попал в тяжёлый артполк, старался очень, все ему тут было хорошо. Говорил: «Тут у вас воевать можно!»
Яркий, весенний день. Мокрый блеск солнца. А у Третьякова что-то опустилось на глаза, притемняет сверху и день и небо — тень легла на все.
На хуторе во дворах набито войск. Всюду машины, кони, пушки, снуют бойцы из двора во двор, костры горят на земле, дымят кухни. Какая-то часть подошла ночью. Пахнет дымом костров, конским навозом, бензином.
Из ближнего двора Третьякова окликают:
— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!
Весь его взвод сидит у пригретой солнцем белой стены хаты. Перевёрнутая бричка без колёс, как стол, вокруг неё разместились кто на чем. Ему освободили место. Рыжеватый, с морковным румянцем во всю щеку боец сбегал к кухне, в угол двора, где гуще народа, толкотня и крик, принёс котелок супа. Он без шинели, широк в плечах, узкобёдрый, сильно затянут ремнём. Беря котелок, Третьяков пристально глянул ему в лицо. Под белыми ресницами — рыжие весёлые глаза. Джедже-лашвили. А все ещё видел Насруллаева, давило ему на лоб, незримый козырёк нависал над глазами, застил свет солнца. Нет, он не контужен, но какой-то оглушённый он, никак в себя не придёт: видит все, слышит, а понимает с опозданием.
Только отхлебнув, он посмотрел, что ест. В котелке — суп-пюре гороховый, густой и жёлтый. И с этой ложкой, закрыв глаза, он мысленно помянул тех, кого уж нет с ними сегодня. Они все ещё были здесь, вот так же могли толкаться сейчас у кухни, сидеть на солнце.
Глиняная, побелённая стена хаты была побита осколками. На ней жужжали, ползали облепившие её мухи.
Изумрудно-зеленые, синие, вялые после зимы, они оживали на весеннем солнце. Зачем погибли люди? Зачем гибнут ещё? Ведь кончена война, кончена. И уже не изменить это: победили мы. Но вот оттягивают час своей гибели те, кто её начал, и ещё вышлют они к фронту не одну дивизию, и пехотную и танковую, и люди убивают друг друга, и погибают, и скольким ещё погибнуть суждено.
— «Рама»! — кричат во дворе. И по всему хутору из двора во двор перекидывается крик:
— «Рама»!
Двухфюзеляжный немецкий разведчик «фокке-вульф» кружит высоко в небе, гудит. Солнце слепящее, кучно вспыхивают в синеве белые зенитные разрывы, сопровождая самолёт, а его самого не видно, только иногда взблеснёт коротко на солнце что-то алюминиевым блеском. И все, подняв лица, смотрят с земли. Сколько за войну видел Третьяков сбитых самолётов, но ни разу не видал, чтобы сбили «раму». Белые хлопья зениток все вспыхивают и вспыхивают, отставая от них, отдельно и глухо слышны за толщей воздуха в вышине частые разрывы.
Вспрыгнув на бричку, Кытин палит вверх из карабина.
— Слезь! — говорит ему Чабаров. — Что ты её, собьёшь?
И Третьяков, которому надоело хлопанье над ухом, говорит:
— Слезь!
Расстреляв обойму, Кытин смеётся довольный:
— Подыхать полетел.
Джеджелашвили собирает котелки, идёт мыть их в луже: сегодня он «за кухарку». Все закуривают махорку. Солнце размаривает у стены. Живым — живое. Чабаров рассказывает, как у них в Татарии вялят гусей весной:
— Вот самое такое солнце у нас в марте. Снег ещё, солнце яркое, пыли нет, мух нет. Гуси жирные ходят по двору. Вяленого гуся поешь, никакой другой закуски не захочешь.
— Ну! — торопит Обухов.
— Чего ну? — Чабаров не любит, чтоб его перебивали.
— Вялите их как?
— Совсем просто…
В конце улицы показался из переулка «виллис» командира полка. И уже кричит кто-то:
— Первый дивизион!..
— Эх, сержант, — говорит Кытин, — только мы твоих гусей распробовались…
В соседнем дворе взрокотал мотор трактора, пронзительно заржала лошадь.