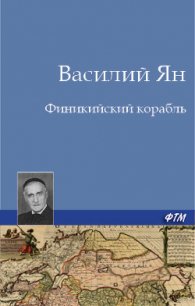Последний мир - Рансмайр Кристоф (онлайн книга без .txt) 📗
Терей с трудом прочел свое имя, молча пожал плечами и опять склонился над чаном рассола.
Только Молва вспомнила. От печали по сыну она сделалась говорлива и искала слушателей, даже обвешанным амулетами горцам-беженцам, которые толпились возле стеллажей и озаренного неверным пламенем свеч изваянья Батта и недоуменно пялили на нее глаза, – даже им она расписывала в бесконечных историях свою беду, смиряя нетерпенье слушателей водкой и жевательным табаком…
Молва вспомнила: тряпки вроде вот этой слуга ссыльного собирал в Томах по домам, когда спускался на побережье за припасами, – халаты, дырявые платья, изношенные детские вещи, – а после в горах оплетал ими странные каменные пирамиды, наподобие дорожных знаков.
К берегам железного города Пифагор приплыл на «Арго» холодным штормовым летом, много раньше Назона; изобретатель, ученый, он бежал от деспотического режима, откуда-то из Греции. Самос – так он называл свою родину и предавался мечтам о могуществе времени, которое не только сокрушит деспота, тиранящего этот остров, но и упразднит всякое господство человека над человеком, превратив его в счастливое братство людей. Однако же письма и газеты, попадавшие к нему в теченье лет, опровергали его мечтания.
Лет десять, а то и больше грек жил в каменном доме на берегу глубоко врезанной в материк бухты южнее Томского мыса – временном приюте для рыбаков, которые пережидали там непогоду, застигшую их на пути к дому. Эти рыбаки, поневоле высадившиеся на берег, долгое время были единственные, с кем встречался отшельник; иногда на своих суденышках они отвозили его в Томы, а тамошний народ относился к нему с симпатией, ведь он всегда являлся как вестник избавления, после благополучно пережитой бури, потому у них и вошло в привычку одаривать его. После таких визитов он, тяжело нагруженный, возвращался береговыми тропками в свое уединение, сидел там среди плавника и водорослей и писал на песке, чтобы волны слизнули его слова и знаки, приглашая начать сначала, по-другому, заново.
В ветвях сосны, единственного дерева его бухты, он укрепил три эоловы арфы и по гармониям нарастающих и стихающих звуков определял, когда ждать бури, а значит, гостей с моря. За долгие годы тишины и одиночества он начал вести беседы с самим собою и в конце концов стал говорить путано и сумбурно; бывая в железном городе, он до тех пор произносил возле бойни речи о позоре мясоеденья, пока Терей через открытые окна не забрасывал его овечьими сердцами и кишками.
Пифагор уверял, будто из глаз коров и свиней смотрят погибшие, превращенные люди, равно как в неподвижном взгляде пьяного рудоплава уже заметна настороженность хищника; уверял, будто собственный его дух в своих блужданиях обитал под панцирями ящериц и воинов и покидал эти убогие воплощенья от выстрелов; уверял, будто видел, как вырастали из камня и снова падали во прах города, подобные Трое и Карфагену, и давно уж прослыл чокнутым, когда в один из нежно-голубых дней раннего лета в гавань железного города вошла «Тривия» и под любопытными взглядами портовой публики высадила на берег изгнанника: в сопровождении двух пограничников Назон спустился тогда по трапу, подписал в конторе смотрителя порта целую пачку каких-то формуляров и светокопий, а через несколько часов, когда шхуна снова отчалила и с попутным ветром исчезла из виду, он все еще безмолвно сидел на пристани возле своего багажа.
В отчаянии этого ссыльного Пифагор узнал собственную боль и даже собственную судьбу и не вернулся в тот день к себе в бухту. Без умолку болтая, он помог римлянину устроиться в заброшенном доме, который тому отвели на необитаемой улице, оставался при нем в первые дни ссылки, а потом целые недели и месяцы и в конце концов, когда враждебность железного города изгнала ссыльного в пустынь Трахилы, последовал за ним в этот последний приют. Томиты все-таки мало-помалу уразумели, что хозяин столь же безобиден, как и слуга, однако ни тот ни другой уже не захотели возвращаться на побережье. Трахила была надежным местом.
Пифагор неизменно обнаруживал в Назоновых ответах и рассказах все свои мысли и чувства и уверился, что в этом совпадении ему наконец открылась гармония, которую стоит увековечить; с той поры на песке он больше не писал, а начал делать надписи повсюду, где бы ни появился, – сперва он карябал гвоздями и перочинным ножиком только столы в погребке у кабатчика, затем принялся писать глиняными черепками на стенах домов и мелом на деревьях, а порой даже на боках отбившихся от стада овец и свиней.
Батт, вздохнула Молва и смахнула слезы, как всегда, если речь заходила о сыне, – Батт иной раз притаскивал из своих блужданий по осыпям в точности такие лоскутья, как Котта, хотя из-за падучей она запрещала мальчишке эти прогулки, а в наказание ставила коленками на поленья.
Ну, а что на клочке ткани, который Котта положил на прилавок и разгладил, стоит ее имя, так это ничего не значит, просто под конец Пифагор всякую меру потерял в своем благоговенье перед поэтом и записывал все, что говорил Назон, каждую фразу, каждое имя. В Трахиле ему не грозили насмешки и протесты рудоплавов, которые ведрами воды, собаками и камнями оборонялись от писанины на стенах своих домов и садовых оградах; в Трахиле грек целиком отдался своей страсти и начал воздвигать монументы любому слову Назона, каменные пирамиды везде и всюду вплоть до ледниковых глыб и самых крутых пиков и скал, в знак того, что он, Пифагор Самосский, уже не одинок в своих мыслях и суждениях о мире.
Пришел декабрь, а снег в Томах так ни разу и не выпал. Теплый неугомонный ветер, крепчавший порой до ураганной силы, снова и снова разгонял даже самые мощные дождевые фронты, а затем опять приносил из-за моря, казалось бы, несокрушимые облачные гряды; вперемежку с такими пасмурными свинцово-серыми днями случались иной раз деньки настолько погожие и теплые, что хозяйки проветривали на садовых оградах одеяла и подушки, а рыбаки конопатили на пристани свои перевернутые лодки и даже, спустив их на воду, плавали по заливу, пока клубящаяся стена туч не заставляла их вернуться в гавань. Побережье оставалось зеленым.
Котта ждал. То стихающий, то вновь нарастающий рокот где-то в сердце гор и сообщения беженцев, которые все шли из своих долин в город и рассказывали о погибших, о разбежавшихся стадах и погребенных хижинах, – все это покуда делало новый поход в Трахилу совершенно безумной затеей. Поэтому он едва ли не каждый день по многу часов проводил в лавке Молвы – со стаканом чая сидел на табуретке возле каменного Батта, читал пожелтевшие, заплесневелые журналы, доставленные последним рейсом «Тривии», иногда, помогая торговке, перекатывал бочки, укладывал штабелем ящики; и приходил снова и снова, потому что Молва разговаривала с ним так доверительно, с таким вниманием, будто он никогда не был здесь чужаком.
Торговка обслуживала полунищих горцев, придирчиво разглядывала шерсть, опалы и вонючие шкуры, которые беженцы предлагали в обмен, а заодно сетовала на свои и чужие горести, проклинала тяготы жизни на здешних берегах, а в подтверждение справедливости своих иеремиад то и дело ссылалась на томских обитателей, чьи судьбы живописала в длинных, зачастую противоречивых рассказах. Котта, сидя на табуретке, безмолвно слушал, порою с таким же тупым выражением на лице, с каким внимал ламентациям матери Батт, – судя по всему, приморские жители ненавидели горцев не столько за их нищету, грубость и невежество, сколько в первую очередь за то, что в убожестве такого бездомного оборванца узнавали собственное прошлое.
Из причитаний Молвы Котта постепенно доведался, что сходны были не только судьбы грека-слуги и его хозяина, но и все людские судьбы на томских берегах были сходны по меньшей мере в одном: кто бы ни находил пристанище в руинах, трущобах и изъеденных ветрами каменных домах Томов, сам являлся сюда с чужбины, бог весть откуда. Если не считать десятка лохматых, нечесаных ребятишек, похоже, ни один из обитателей не жил в Томах от рождения, всех привели на эти берега прихотливые пути-дороги бегства или изгнанья.