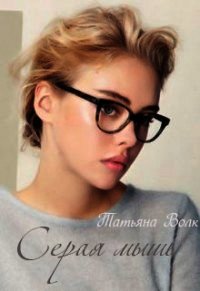Школа насилия - Ниман Норберт (читать хорошую книгу .txt) 📗
Да, ты не ослышался, Кевин теперь тоже ходит на занятия драмкружка. В один, если угодно, прекрасный день, прямо посреди репетиции, дверь распахнулась, и этот кошмар всех учителей явился собственной персоной. Поначалу, когда наступала его очередь подавать реплику, воцарялось смущенное молчание. Ведь пока он выдавит из себя хоть один звук, может лопнуть всякое терпение. А какие звуки он тогда издает. Невероятно высокие, писклявые, монотонные. Кстати, волосы он теперь отращивает. У него маленькая роль ревнивого отца. «Ты обменивался с ней залогами любви, ты прокрался в ее сны» — в таком роде, на этом месте кто-то захихикал, «…соблазнами, пред коими не может устоять неопытная юность». После чего Марлон в манере Грязного Гарри обращался к девушке, исполнявшей роль дочери: «Твой отец для тебя вроде Бога, а ты для него — восковая фигура, которую он сотворил, и целиком в его власти сохранить ее или уничтожить». Его лихорадочно бегающие глаза альбиноса за толстыми стеклами очков казались огромными, все так и прыснули со смеху, правда, я тоже смеялся до слез. Даже Кевин рассмеялся со всеми или, лучше сказать, попытался это сделать. Он вообще теперь изо всех сил старается казаться общительным. В такие моменты Надя бросает на него изумленные понимающие взгляды. Он делает вид, что ничего не замечает. Две головы, еще недавно бритые наголо, два мира, и их способ коммуникации. Я уверен, что Кевину это доставляет удовольствие.
Его участие в репетициях означало некоторое изменение. Он пришел, а Амелия и Надин бывший друг Дэни приходить перестали. При этом Амелия была движущей силой театральной группы, они с Марлоном — самые одаренные из всех. Надя считает, что ко мне это не имеет никакого отношения. Она же всех допросила с пристрастием. Якобы они ничего не знают о брошенном в окно камне, понятно. Они якобы страшно испугались, когда узнали. Я даже думаю, что только этот испуг и всеобщая истерия по поводу случаев насилия помогли им отнестись ко мне довольно спокойно, с легкой иронией. Конечно, я плачу им взаимностью. Мне действительно казалось, что эта ирония, царящая теперь на репетициях, впервые помогла нащупать почву для взаимопонимания.
Но не с Амелией и Дэни. Они просто хотят завязать с компанией, уверяла меня Надя. Они теперь считают, что все это муть, фальшь, детский сад. Кроме того, эти двое стали парой. У них есть дела поважнее. Например, имидж. Оба сменили экипировку. Он сделал стрижку короткую, но не слишком, отпустил бакенбарды, тонкую техно-бородку, носит элегантные костюмы. Она тоже обрезала косички-дреды, волосы укладывает в стиле чарльстон — красит перекисью и зачесывает назад с помощью геля. Носит супермодные тряпки из бутика и чудовищные туфли на платформе, например из плексиглаза. Я с трудом ее узнаю.
«Это были мои лучшие друзья. А как же еще им было реагировать?»
Значит, Надя дала им свое благословение. Поэтому я перестал думать об их уходе и их преображении. Все остальное получалось легко, почти само собой. Я думал, что благодаря Наде многое понял. Словно для меня раскрылась дверь, невидимая дверь в невидимое помещение, где они заперты так же, как заперт я в своем пространстве. И через дверь в данном случае прошел, да, я.
В чем и упрекаю себя больше всего. В своей самодовольной эйфории. В непростительной наивности. Ведь, в сущности, с этого и началось. Иначе мне никогда не пришло бы в голову пытаться уговорить Амелию и Дэни вернуться в драмкружок. И я не рискнул бы против воли моей экс-жены разговаривать по телефону с Люци, а потом еще всеми силами убеждать ее встретиться со мной. Хотя бы на один-два часа. Пусть даже у них там, в отвратительном городишке, где я прежде жил.
В общем, дело было в среду, я кончил работу немного раньше. С дочерью договорился на полчетвертого. Чтобы не попасть в пробку на кольце, выехал сразу, передохнуть решил в закусочной у выезда на шоссе. Я подъезжал к стоянке позади закусочной, когда увидел и уже издалека узнал их. Оба курили, облокотившись на голубой «гольф» Амелии, несколько недель назад она получила права. Дэни держал у уха мобильник, потом передал его подруге, вещичка засновала туда-сюда. При этом они, похоже, наблюдали за мной.
Я часто представлял себе, какое произвел на них впечатление, когда направился им навстречу с наивной улыбкой во весь рот. Это наверняка только подогрело их презрение. Их ненависть. Кажется, я даже помахал им рукой. И когда потом воздвигся перед ними с возгласом «Привет!», они сочли, что я втираюсь к ним в доверие, и все покатилось под гору. Каким же я оказался идиотом. В припадке педагогической настырности я стал втолковывать им, как это важно, как это было бы прекрасно, если бы они… Я запретил себе думать об этом. Они даже не слушали, ведь если им вешают на уши тошнотворную учительскую лапшу, они автоматически «отключают звук». И как только я сделал первую, так сказать, вопросительную паузу, Тодорик плюнул мне под ноги.
Тут только я осознал, что происходит. Господи, я не просто понял всю неуместность своего выступления. Ведь когда я остановился рядом с ними, эта Кляйнкнехт сжала в руке какой-то маленький мягкий предмет. Я не обратил внимания, заметил и тут же забыл, а теперь припомнил эту картинку. Предмет был белым, белым, думаю, как ее пальцы, а мой взгляд, словно нечаянно, падает на ее кулак, из которого высовывается уголок пакетика, и, странно, я сразу же чую опасность. Смутная догадка не успела оформиться в мысль, а я уже рефлекторно поднимаю руку, защищаясь от удара Тодорика.
В самом деле, это было чрезвычайно странно. Парень, как буйнопомешанный, метелил меня кулаками, ногами. Поначалу я только защищался. Но я никак не мог поверить, что все это происходит на самом деле. Нет, я не стоял рядом, не смотрел на себя как на постороннего. Это даже не было как во сне. Напротив, все казалось теперь особенно реальным, так сказать, четким, прежде всего искаженные лица обоих, кожа, краски, тени, крошечные складки, поры, открытые рты. Они орали не знаю что. Казалось, голоса звучали страшно далеко, сливались с моим громким хрипом, как частотные помехи, как слабый шорох хоть и бушующего, но очень далекого прибоя. Даже жжение, а потом мгновенная, острая боль, перешедшая в зуд в каждом задетом месте, на бедрах, на руках, которыми я защищался. Я все чувствовал очень остро, только не мог, так сказать, принять всерьез. Казалось, некая внешняя оболочка реальности хочет навязать мне себя как реальность, как некое покрытие поверхности, непроницаемое для воздуха, устойчивое к коррозии, а под ней разыгрывается что-то совсем другое.
Потом Тодорик ударил меня в живот. Я чуть не задохнулся, но было не очень больно. Не колеблясь ни секунды, я со всей силой вернул удар. Угодил ему в подбородок. Он потерял равновесие. Шмякнулся спиной на машину. Замер на момент с широко открытым ртом, тем самым, на котором я всегда видел только улыбку. Потом схватил меня за горло.
Если не считать детских драк, я, естественно, не дрался никогда в жизни. Так что у меня заведомо не было никаких шансов, тем более что эта Кляйнкнехт повисла у меня на спине и колотила по ребрам. Да я и не хотел иметь шанс. Тодорик зажал мою голову под мышкой, в ушах звенело, под закрытыми веками расплылось красное пятно, что-то двинуло меня под колени, и я желал лишь одного — чтобы эта краснота погасла и я провалился бы в теплый темный сон. Потом я упал, откатился в сторону, инстинктивно сгруппировался и, защищаясь, прикрыл плечом лицо. Под ним я увидел блестящие лиловые сапоги на толстой подошве, сапоги Тодорика, но в лицо он меня не пнул. Когда они удалялись, я услышал скрежет гравия, да, я снова различал звуки, громкие и отчетливые. «Никто не видел, — сказала Кляйнкнехт, — уходим».
Теперь я поглядел на переднее колесо «гольфа» и подумал: какое черное; серьезно, так и подумал, в этой мысли было смешное почтение, пиетет, яростное согласие, не знаю, на мою смерть, может быть. «Ни слова!» — услышал я. Очень хорошо расслышал.
«Ты слышал?»
Я почувствовал, что кивнул.