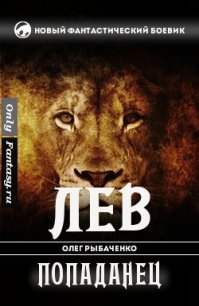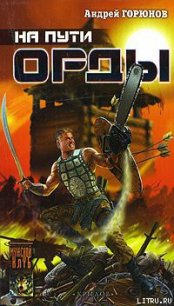Остров - Голованов Василий (хорошие книги бесплатные полностью TXT) 📗
Я говорил Алику, что вот, интересно было бы взглянуть, если не развалилась.
Давно никто уже не добирался до этой избы.
За два месяца я, наверно, сошел бы здесь с ума.
Помню: русло повернуло в сторону берега. Мы сначала летели на моторе, а потом крадучись пошли, толкаясь веслами. Потом вытащили лодку на берег. По глине легко скользила, как по маслу. Поначалу я даже не понял, что всё, мы прибыли. Потом Алик подхватил свой рюкзак и пошел, оскальзываясь на свежей керамической отливке русла. Это, значит, и есть речка Васькина.
Здорово из-под сапог глину выдавливает, когда с рюкзаком идешь. Помню, я когда надел на плечи свой рюкзак, почувствовал, как волокна шейных мышц захрустели, как рвущееся стекловолокно – льдистый такой звук – и не подумал даже, а всем своим существом ощутил: «не может быть». Нереально. Я не выдержу. Это адская тяжесть. С таким рюкзаком мне никуда не дойти, даже обратно. Только если бросить.
Минутная слабость, когда все мысли, все чувства подаются назад: хорошо запомнилась.
Потом Алик сказал Саше:
– Обратно, может, проскочишь до избы. Там подождешь прилива…
Наверно, мы прощались, желали друг другу счастливого пути, но я этого не помню. Помню, как сашина лодка ушла и мы остались одни на берегу. Долго еще слышали взвывы её мотора где-то среди серых мелей, а сами сидели возле своих рюкзаков минут пять или десять, то ли оглядываясь, то ли пытаясь придти в себя. Все-таки странное это было место: берег, правда, песчаный, сухой, твердый, но в сторону моря ничего не поймешь – протоки, да мели, да лужи, да острова, но моря самого не видать, как и Кошки тоже. Она, вроде, близко должна быть, и Промой тут как раз против Васькиной. Но – ничего, что бы мне напоминало мои собственные представления: только эта кромешная гибель глины перед глазами да туман. Никакой ровной «дороги», которая должна была быть по идее. То есть, не совсем понятно, почему «должна» и по какой «идее». С «идеями» пора было решительно кончать здесь: об этом Остров довольно-таки внятно сообщил мне на своем языке, которого я хоть и не знал, но, однако ж, понял. А что до «идей», до эйдосов этих, то что-то они не годились здесь ни к чему. За все умствования Платона я бы и гроша ломаного не дал на этом берегу. Ничем, ну, ничем совершенно не могли они помочь мне в моем теперешнем положении, и я некоторое время сидел, как поклёванный чайками, привыкая.
Не знаю, что стал бы делать Платон, окажись он в моем положении. Наверно, решил бы, что умер и попал в Аид.
Вероятно, я все же испугался, оказавшись на этом берегу – иначе не нападал бы так на великого философа.
Потом испуг прошел.
Мы поразглядывали немножко карту, пригнали рюкзаки поудобнее и пошли. Настроение, несмотря на удручающую силу земного тяготения, было приподнятое. Но помню я все равно на удивление мало. Сначала, вроде, были дюны, заросшие травой и сухим мхом. Иногда попадались голые места, едва прикрытые сверху паутинкой гусиной травы: похоже на картинку из книжки об истории Земли, которую я любил рассматривать в детстве. Там было изображено дно высохшего древнего моря… Потом были староверские могилы. Возле одной из них во мху лежал крест. Дерево было старое, но не гнилое: на Колгуеве железо гниет быстрее, чем дерево. Я использовал крест как повод скинуть рюкзак и достать фотоаппарат. Но опять же: как вдохнуть в кадр всю заброшенность этого берега, где никто не пошевелил крест, подломившийся сто пятьдесят, а то и двести лет тому назад? Как выразить всю утлость этого кладбища на песчаном бугре, чуть возвышающемся над плоскостью, прочерченной несколькими невнятными, бледными линиями, как наконец, вопросить этих мертвых: кто вы?
Помню белые пески, бескрайний пляж, автоматический маяк. Здесь Кошка, или то, что я считал Кошкой – этот лабиринт мелей – вплотную подходит к острову и маяк сигнализирует об этом. Море близко чувствуется, хотя его и не видать. На песке много мусора, заброшенного через Кошку зимними штормами. Бутылки, бревна, кусок коры пробкового дуба, длинный побег бамбука, кокос, изолированный противогаз и кубик Рубика. Помню, как Толик, подобрав валяющуюся на берегу початую бутылку водки, не долго думая, свинтив пробку, делает большой глоток и тут же изображает на лице гримасу отвращения:
– Солёная, блядь… Вода попала…
Я смотрю на него, не понимая. Я говорю: «Ты что?» – «А что?» – «Ну а если бы в бутылке была серная кислота?» – «Почему кислота?» – «Все равно почему – но ты даже не понюхал, что пьешь!»
Мне не удается достичь желаемого эффекта: вероятностные опасности не пугают Толика.
К острову море всегда прибивало что-нибудь. Нередко это были опасные и совершенно неизвестные ненцам вещи. Но каждая из них была вестью из мира, скрытого от острова морской далью. Никого еще опасности берегового промысла не отпугнули и не избавили от надежды обнаружить послание, обращенное лично к нему, какое-то неожиданное, невообразимое сокровище [12].
Возле маяка мы пообедали. Я чувствовал, что очень устал. Дул резкий ветер. Казалось, на таком ветру костер развести будет трудновато, но – ничуть! Ребята вырыли в песке ямку, зажгли в ней несколько щепок и вскоре уже в этой ямке ветер раздувал жар сухого, просоленного дерева, как в аэродинамической трубе, окатывая котелок раскаленными языками белого огня, как из огнемёта. По счастью, котелок не был подвешен, а стоял на земле, потому что оказавшаяся на «горячей» стороне алюминиевая ручка почти сразу расплавилась и разорвалась надвое. Для ненцев ветер не является помехой при разведении костра – напротив, он придает пламени реактивный накал и направляет его точно в бок той посудине, которую вы собираетесь вскипятить, не давая теплу распыляться и попусту улетать в небо.
Помню, вода закипела мгновенно и мы сварили очень густой суп – несомненно, из-за тайного желания избавиться от максимального количества продуктов – который показался мне вкусным, как никогда. Вдруг ощутил я прилив сил, уверенности и восторга. Белый песок уже замёл за нами наши следы, пустыня сомкнулась за нами, пространство поглотило нас!
Мы выпили чаю. Потом кофе. Покурили, обживаясь в том чувстве покоя, которое наступает, когда отступление невозможно. У нас впереди был непочатый путь. Мы только-только ступали на него…
Шли часов шесть, потом сделали привал, потом еще три часа шли.
О первом дне похода в моем дневнике записано всего 18 строк, половинка тетрадной страницы. Не потому, что этот день был беден на впечатления: наоборот, это был один из самых удивительных, самых значительных дней моей жизни. Просто я очень устал и не знал, про что записывать и как, не знал языка. Дневник подтверждает это своим красноречивым косноязычием. «Кладбище староверов; берег золотого корня; дно первобытных морей; берег бревен; берег камней, нарубленных, как сыр (раскол вертикально); берег сиреневых цветочков. Ветер. Два лебедя. Последний рывок Петьки. Чистый мир. Потеря чувства реальности. Ощущение, что всё, случившееся сегодня со мной, не могло произойти ни при каких обстоятельствах. И все-таки произошло…» Это же сплошь назывные предложения, едва ли даже выражающие законченную мысль, а просто с большей или меньшей степенью расплывчатости указывающие на то, что открывалось глазам – «это», «это». Простейшие фигуры языка пространства…
Я знал, что для описания похода мне потребуется другой язык, нежели те (внутри языка существующие) языки, которые были более-менее известны мне. Я понимал, что язык, в котором обращаются слова «конверсия» и «конвергенция» вряд ли пригодится мне для описания берега сиреневых цветочков, но, по совести говоря, не ожидал такой сильной ломки, такой детской беспомощности.
«Берег сиреневых цветочков»! Это же вообще младенческий лепет какой-то: здесь все неточно, все приблизительно. Собственно, даже цветочки эти не названы и я сейчас, хоть убей, не могу определить, что это были за цветы: знаю только, что не незабудки, не колокольчики, не горечавка, а какие-то другие цветы, которые могут быть названы «сиреневыми». Но какие – не знаю.
12
Рассказывают, что в 60-е году какой-то мужик нашел как раз возле Васькиной большую «ушастую» морскую мину. Не долго думая, он взял топор и отрубил одно свинцовое ухо – в котором, как известно, и заключен взрыватель – чтобы наплавить себе дроби. Мина не взорвалась. В поселке его жена, обследовав находку, обнаружила, что помимо свинца, внутри есть еще медная чашечка, которую можно приспособить под напёрсток. Едва она сунула палец в «напёрсток» (ни что иное, как капсюль-детонатор), как раздался взрыв и палец ей оторвало.