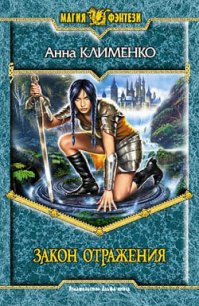Осенний свет - Гарднер Джон Чамплин (читать книги бесплатно полностью без регистрации .txt) 📗
— Расстроилась, — объяснил он сыну. — Ты не бойся.
Они вошли в калитку, Льюис взял Дикки на руки и зашагал по скотному двору, осторожно, хоть башмаки на нем были и не ахти, ступая с камня на камень, с кустика травы на кустик травы, перешагивая лужи, грязь и коровьи лепешки. Джинни, опередив их, уже скрылась за дверью коровника. Слышно было, как чухает компрессор доильной установки.
Джинни, после того что она увидела, была теперь всей душой на стороне отца. Его она нашла между двумя голштинками, он прилаживал ремни доилки.
— Здравствуй, па, — произнесла она у него за спиной.
Старик вздрогнул от неожиданности, улыбнулся, обрадованный дочери, но сохранил суровое выражение лица.
— Здравствуй, здравствуй, Джинни.
— Я стучалась в дом, стучалась. Дверь заперта.
Собственно, это был вопрос, но старик не счел нужным его заметить.
— Зима уже на пороге, — сказал он. — Ну-ну, милка. — Он нагнулся, чтобы надеть доильные стаканы.
— Ты видел, что с сиренью? — спросила Джинни. Она стояла, сложив под грудью руки, крепко обхватив пальцами локти: потому что курить у отца в коровнике было запрещено.
— Вроде бы нет, — ответил он и, подняв продолговатое лицо, взглянул на дочь. Она молчала, и он кончил прилаживать стаканы, отмахнулся от мухи, потом кряхтя выпрямился, ухватясь за острый коровий мосол. Приняв относительно вертикальное положение — но все еще согбенный, так что Джинни с болью заметила, что отец ее уже стар, — он переступил назад через дымящийся сток и пошел по проходу, аккуратно ставя рыжие башмаки, чтобы не поскользнуться в навозе или на мокрой извести. Свободные ремни, снятые с коровы, он повесил себе на шею. Джинни шмыгнула носом, пряча слезы. Отец был человек крепкий, он целую жизнь поднимал и переносил тяжести, но вон как он усох, обветренная, задубелая кожа обвисла, и кости выступили, будто у оголодавшей скотины, в особенности позвонки на шее и череп — он стал в последнее время неприятно выпуклый, как у зародыша, — и суставы пальцев, и запястья. — Так что там с нею? — спросил он. — С сиренью?
— Тетя Салли выплескивает горшок в окно, — ответила она и вдруг, рывком подняв руки к лицу, зарыдала. Плечи затряслись, голос прервался. Старик стоял перед ней, свесив шишковатые руки, растерянный, не зная, как быть. Он не расслышал, что она сказала, вернее, не уверен был, что расслышал правильно, и перед лицом ее внезапного горя — она словно оплакивала чью-то гибель — ему оставалось только стоять беспомощно и надеяться на дальнейшие разъяснения. А Джинни рыдала взахлеб, и разобрать, что она говорит, становилось все труднее. — Прямо на сирень, всякому с дороги видно, понимаешь? Кто ни пройдет мимо, может заглянуть и... — Разрыдалась еще пуще и больше ничего не могла произнести, только сдавила ладонями лицо и задохнулась, ловя ртом воздух. Так она, бывало, плакала девочкой; он вспомнил, как отшлепал ее один раз под веревкой, на которой сушилось белье, лет семь ей тогда было, может, восемь, отшлепал не сильно, а как раз по заслугам, но она так отчаянно рыдала, что сердце у него сжалось от боли, он обнял ее и поцеловал в щеку, — вот и теперь он потянулся неловко обнять ее, поднял к ее плечам негнущиеся, сухие руки, но куда уж тут, Джинни теперь взрослая, а он старый, скрюченный от резей в животе. Ему вспомнилось, как она рыдала, когда упал с крыши сарая маленький Итен, его меньшенький, упал, сломал шею и умер семи лет от роду.
— Джинни, ну чего ты? — спросил он плачущую дочь. — Не разберу, что ты говоришь, голубка. Ну что такое случилось? — Тут он заметил, что по проходу коровника к ним бредут Льюис и Дикки, осторожно ступая между коровьих лепешек, точно рыбаки, по камешкам перебирающиеся через речку. — Льюис! — крикнул он зятю. — Что случилось?
Они шли, и из окон на их лица проливались странно алые отсветы тревожного закатного неба. Льюис вел Дикки за руку.
— Да вот тетя Салли, — ответил Льюис, подходя. — Похоже, она пользуется судном и опорожняет его прямо в окно.
У старика захолонуло сердце: по-ихнему получится, что виноват, конечно, он.
Льюис остановился в трех-четырех шагах, по-прежнему держа за руку сына и сам похожий на беспомощного маленького мальчика. Он грустными глазами поглядывал на Джинни. А Джеймс поджал губы и, похлопывая дочь по полным плечам, только и нашелся что пробормотать:
— Ну будет, будет, голубка. Успокойся, родная.
Уже давно пора было переставлять доильные аппараты, он знал, что, если не сделает этого вот сейчас, стаканы, того и гляди, полетят от коровьего копыта прямо на двор.
— Мне, голубка, надо переставить доилки, — вслух сказал он. Джинни кивнула, звучно глотнув и наконец сдержав рыдания. Он еще два-три раза похлопал ее по плечам и отошел к гернсейской корове, которая стояла по очереди следующей. Надел на корову свободные ремни, пригнувшись, отключил и снял доильные стаканы у ее соседки и, с полной доилкой осторожно переступив через канавку, слил молоко в ведро. Немного дальше, у беленого деревянного столба, сидели бдительные коты, с виду такие мягкие, домашние, как диванные подушки, а вздумаешь погладить, того и гляди, останешься без пальца. Джеймс прошел к столбу, плеснул им молока в перевернутую мятую крышку от старого десятигаллонового бидона, потом, все так же скрючившись в три погибели, вернулся обратно, чтобы приладить стаканы той корове, на которую надел ремни.
Джинни, немного успокоившись, прошла по проходу и остановилась напротив отца. Она еще не совсем перестала плакать, но говорить уже могла. Льюис и Дикки тоже подошли поближе. Джинни сказала:
— Как она могла? Наверно, это старческое слабоумие.
— Может, и так, — подтвердил Льюис. — Мой дед, как состарился, разгуливал вокруг дома в чем мать родила.
— Не представляю себе, что делать? — закинув голову и все еще всхлипывая, сказала Джинни. — Мы же не можем поместить ее в лечебницу: это стоит бешеных денег.
Джеймс отлично понимал, что настало время ему вмешаться в разговор, однако сумел выдавить из себя только одну фразу:
— По-моему, не стоит еще пока беспокоиться... ну, насчет того, что Салли впала в слабоумие.
— Тогда, значит, рехнулась, — сказала Джинни. — Еще того хуже.
Она, кажется, готова была снова заплакать. Льюис покачал головой в ответ на какие-то свои мысли. Мальчик тянулся назад, он повис на отцовой руке и длинной соломиной дразнил котов.
Джеймс, как смог, распрямил спину, перешагнул через сток и пошел к ним, на ходу вешая себе на шею ремни доилки. Хоть он и знать ее сейчас не хотел, эту ведьму, свою сестрицу, однако не в его обычаях было мириться с ошибочными утверждениями.
— Едва ли доктор сочтет, что она рехнулась, — сказал он.
— Ну, не знаю, — неопределенно возразил Льюис. — Все-таки это ненормально — выливать горшки в окно, да еще со стороны улицы.
— Небось не могла в уборную пройти, — так же неопределенно предположил Джеймс и, переступив обратно через сток, стал вешать ремни на следующую в ряду корову. — Ну-у, не балуй!
Джинни резко обернулась.
— Ты что, опять ее запер?
Он прижался лбом к теплому коровьему животу.
— Вовсе нет. Просто позаботился, чтобы она не передумала, раз уж с утра решила не выходить. Методом убеждения.
Они ждали, но он больше ничего не прибавил, и в конце концов Джинни спросила:
— Папа, ты что там натворил?
Вот так, опять он кругом не прав. Что ни делается, за все его винят.
— Пошли бы сами и посмотрели, — проворчал он в ответ. Скулы у него напряглись, голос от негодования и обиды зазвучал тоньше. Его приверженность к немногословной истине не выдержала и рухнула под тяжестью проявленной к нему несправедливости, словно стена старого сеновала. — Посмотрите своими глазами, увидите, лгу я или нет. Вы что думаете, я ей голову отрубил, что ли? Вот и ступайте взгляните. Только как же это понимать, скажите вы мне? Салли в моем доме может делать все, что ей заблагорассудится, а я, стоит мне только слово против сказать, уже и преступник? До каких же это пор? Все равно как террористы. Они могут стрелять по полицейским, будто по белкам на дереве, и ни один черт слова не скажет, но стоит какому-нибудь правительству расстрелять пяток террористов, которых суд судил и к смерти приговорил, и сразу же из каждой подворотни и из самой преисподней писем не оберешься. Итальянцы, например. Попробуй напиши книгу, чтобы там была правда про мафию: что им человека пристрелить — раз плюнуть, они и Джона Ф. Кеннеди убили, а страна пусть катится, им дела нет, — оглянуться не успеешь, они тебя — в суд, что, мол, ты оскорбил Итальянскую лигу, представил, будто среди них есть люди нечестные. — Он включил доильную машину, она размеренно зачухала, и он снова переступил через сток. — Всю мою жизнь я, как мог, старался быть справедливым, ты знаешь, вы оба знаете, и Салли тоже; не стерпел только чертова этого ее телевизора. В нем корень зла. «Пусть бы она смотрела его у себя в комнате», — скажете вы, а я вам скажу, что нет, невозможно это. Я бы все равно все слышал и знал бы, какую мерзость и грязь изрыгает он у меня в доме. Вы бы еще сказали, что пусть люди убивают малых детей, только у себя в комнате. Скажете, это другое дело? У меня охоты спорить нет. Но мое мнение такое, что это одно и то же. Я две недели сидел по вечерам и смотрел его — без предубеждения, как присяжный на суде. Я даже готов признать, что видел две или три передачи более или менее безвредные. Но в целом утверждаю, что это грязь и порок: убийцы, насильники, наркоманы, волосатики, лошади, полицейские. Плеваться устаешь. Женщины с микрофоном чуть не голые, руки эдак томно тянут, зубищи свои блестящие скалят и поют песни — уж такие дурацкие, глупее не придумаешь, все больше про постель. Викторины, когда у них там люди из кожи лезут, чтобы только получить деньги. Последние известия — с одного на другое перескакивают, ну прямо цирк какой-то. И бестолковщина, как в брошюре про укрепление здоровья. Преспокойно рассуждают о провале Америки, об упадке религии и семьи, будто все уже кончено. Толкуют, что гомосексуалисты — такие же нормальные люди, как и мы с вами. — Голос у него вдруг пресекся, и он замолчал.