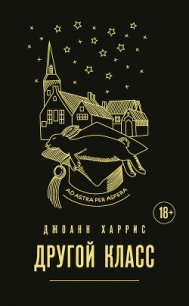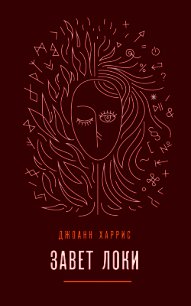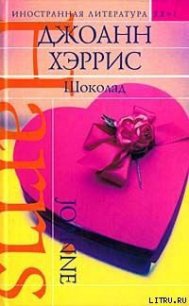Пять четвертинок апельсина - Харрис Джоанн (книги бесплатно без регистрации полные txt) 📗
— Он не должен был умереть, — сказал брат. И я поняла, что это он о нашем отце. Томас стоял и, внешне невозмутимо, ждал.
— Ведь все знали, какой он умный. И владеть собой всегда умел. — Кассис взорвался: — Он был не трус! — и метнул взгляд на Томаса, будто уязвленный его молчанием.
Руки и голос брата дрожали. И вдруг он стал кричать, громко, мучительно, я едва разбирала слова, которые с безудержной яростью рвались из него вон:
— Он не должен был умереть! Он должен был жить, чтоб все стало ясней, чтоб все стало лучше. А вместо этого он ушел на войну и, как дурак, дал себя разорвать на куски! И вместо него остался я, и я… я… не знаю теперь… что делать и ка-а-ак…
Томас подождал, пока все кончится. Это длилось довольно долго. Потом он протянул руку и как ни в чем не бывало забрал у Кассиса ружье.
— Такова доля героев, — бросил он. — Они не успевают дожить до исполнения желаний, правда?
— Я мог тебя убить, — угрюмо буркнул Кассис.
— Противодействовать можно по-разному, — сказал Томас.
Почувствовав, что у них пошло на мировую, я стала потихоньку отходить сквозь кусты, чтоб они, когда обернутся, меня не заметили. Ренетт по-прежнему сидела на том же месте, погрузившись в разглядывание журнала «Cine-Mag». Минут через пять появились Томас с Кассисом, обнявшись, как братья. На Кассисе красовалась лихо надетая набекрень немецкая пилотка.
— Возьми себе, — предложил Томас. — Для меня не проблема вторую такую найти.
Наживка была заглочена. С этого момента Кассис стал его рабом.
Наше рвение угодить Томасу удвоилось.
Любое, самое ничтожное известие сносилось к нему в копилку. Мадам Энрио незаметно от всех на почте вскрыла какой-то пакет. В мясной лавке Жиль Пети продает кошачье мясо, а выдает за кроличье. В «La Mauvaise Reputation» Мартэн Дюпрэ в разговоре с Анри Друо поносил немцев. Говорят, на огороде за домом у Трюрианов под капканом припрятан радиоприемник. А Мартэн Франсэн и вовсе коммунист. И Томас наведывался к этим людям якобы, чтоб изъять продовольствие для солдат, а уносил с собой и кое-что еще — то полные карманы бумажных денег, то тряпки с черного рынка, то бутылку вина. Иногда жертвы поставляли ему дополнительную информацию: про чьего-то парижского родственника, которого прячут в погребе в центре Анже; про то, как на задворках кафе «Рыжий кот» кого-то пырнули ножом. К концу лета Томас Лейбниц знал половину тайн в Анже и две третьих — в Ле-Лавёз, а в казарме под матрасом у него уже скопилось приличное состояние. Он именовал это противодействием. Чему, уточнять не требовалось.
Деньги он посылал домой в Германию, и я все гадала, каким же образом. Надо думать, находились каналы. Портфели дипломатов, курьерские баулы, продовольственные составы и санитарные грузовики. Столько возможностей для молодого предприимчивого человека при хороших-то связях. Он подменял приятелей по части, чтобы чаще наведываться на фермы. Подслушивал всякие разговоры у дверей офицерской столовой. Он нравился людям, ему доверяли, ему рассказывали. И он ничего не забывал.
Это было рискованно. Он как-то мне это сказал, когда мы однажды с ним встретились у реки. Малейший промах и — расстрел. Но при этом глаза у него озорно смеялись. Попадаются исключительно дураки, с улыбкой говорил он. Дурак способен расслабиться, потерять бдительность, а то и сделаться алчным. И Хейнеман, и прочие — дураки. Сначала они ему были нужны, но теперь он понял, что одному безопасней. Они — ненужный балласт. У каждого свои слабости. Толстяк Шварц падок на девочек. Хауэр — пьяница. Ну а Хейнеман с его бесконечными почесываниями и нервным тиком — прямой кандидат в психбольницу. Нет, рассуждал Томас лениво, лежа на спине со стебельком клевера в зубах, лучше работать в одиночку: следить, затаившись, и пусть другие лезут на рожон.
— Возьмем, к примеру, твою щуку, — сказал он задумчиво. — Если б она все время лезла на рожон, ни за что бы так долго в реке не прожила. Она пищу ищет на дне, хоть зубы у нее достаточно остры, чтоб поохотиться за любой речной рыбиной. — Он умолк, откинул стебелек клевера, приподнялся, сел, устремив взгляд на реку. — Она понимает, Уклейка, что за ней охотятся, и она затаилась на дне, питаясь всяким гнильем, отбросами и илом. На дне-то безопасней. Смотрит, как другие рыбы, поменьше, подплывают близко к поверхности, видит, как их брюшко посверкивает на солнце, и как только одна зазевается, что-то ее отвлечет, щука — хап!
Он резко захлопнул ладони — будто щучьи челюсти ухватили невидимую жертву.
Я завороженно смотрела на него.
— Она обходит сети и ловушки. Она узнает их издали. Другие рыбы жадно хватают наживку, но старая щука все ждет, чтобы улучить момент. Она умеет ждать. Она знает, что такое наживка; точно знает. Фальшивая приманка с ней не пройдет. Только на живую может пойти, да и то не всякий раз. На щуку нужен хитрый рыбак. — Он улыбнулся. — Знаешь, Уклейка, нам с тобой не мешает у старой щуки подучиться!
Его слова запали мне в душу. Мы виделись раз в две недели, иногда раз в неделю, раз или два вдвоем, чаще вместе с Кассисом и Рен. Обычно это происходило в четверг, мы встречались у Наблюдательного Пункта, откуда шли в лес или по берегу реки, подальше от деревни, чтоб никто нас не увидел. Томас часто надевал штатское, припрятав в хижине на дереве военную форму, — чтоб избежать лишних вопросов. По черным для матери дням я прибегала к мешочку с апельсиновыми корками, чтоб, пока мы встречаемся с Томасом, она не выходила из своей спальни. В другие дни я вставала рано, в половине пятого, и уходила рыбачить до того, как полагалось выполнять обязанности по хозяйству, стараясь выбирать самые тенистые и тихие места на Луаре. В ловушки для раков у меня набиралась живая наживка, где я и держала ее, чтоб насадить на новую удочку. Потом легким движением раскидывала рыбешек по воде, чтобы они бледным брюшком проскользили по поверхности, чтоб течение взбудоражилось живой приманкой. Таким путем мне удалось поймать несколько щук, но молодых, длиной не больше фута каждая. Я все равно развесила их на Стоячих Камнях рядом с высохшими вонючими водяными змеями, торчавшими там с лета.
Я, как и щука, ждала.
Начался сентябрь, лето повернуло на осень. Было по-прежнему жарко, в воздухе стоял аромат нового урожая, густой и вязкий, со сладким медовым привкусом гнилья. Безжалостные августовские дожди погубили много фруктовых плодов, уцелевшие почернели от облепивших их ос, но мы снимали и их. Потерь мы позволить себе не могли, и то, что нельзя было продать в свежем виде, могло быть переработано на зимние запасы, варенья и наливки. Мать организовывала эту операцию, снабдив нас толстыми перчатками и деревянными щипцами, чтобы подбирать с земли плоды. Помню, в тот год осы были особенно неистовы, — возможно, предчувствовали приход осени и свою скорую гибель. Несмотря на перчатки, они жалили нас беспрестанно, когда мы кидали подопревшие плоды в огромные кипевшие на огне кастрюли. Сначала в варенье попадало много ос, и Рен, не выносившая одного вида насекомых, буквально билась в истерике, когда ей приходилось вылавливать дуршлагом полуживых ос со вспененной густокрасной поверхности. Вздымая фонтан сливового сиропа, она с силой отшвыривала полудохлых ос на дорожку, и к ним тотчас сползались полчища живых соплеменниц. Мать это вывело из себя. Мы не имели права бояться такой мелочи, как осы, и если Рен визжала или хныкала, когда мы собирали с земли сливы, кишащие насекомыми, мать обращалась с ней гораздо круче, чем обычно.
— Что орешь, как придурочная? — взорвалась она. — Кто за тебя будет сливы собирать? Думаешь, мы за тебя это будем делать?
Рен с лицом, искаженным омерзением и страхом, тихо скулила, выставив перед собой растопыренные руки.
Мать разъярилась не на шутку. Голос взвился злобным осиным жужжанием:
— Собирай, не то ты у меня сейчас схлопочешь! Она отпихнула Рен к куче слив, над которой мы трудились, к вязкой, гниющей массе, кишевшей зловредными осами. Оказавшись посреди осиного роя, Ренетт завизжала и отскочила назад к матери, зажмурившись, и потому не видела, как ту от ярости перекосило. Мать сперва будто замерла, перекошенная, потом вдруг схватила Ренетт, продолжавшую истерично орать, за плечо и, ни слова не говоря, поволокла ее к дому. Мы с Кассисом переглянулись, но не двинулись с места. Было ясно, что за этим последует. Ренетт взвыла еще громче, и каждый ее вопль предварял звук, напоминавший глухой хлопок духового ружья, мы же невозмутимо вернулись к прерванной работе среди скопища ос, препровождая деревянными щипцами обвислые куски попорченных слив в поставленные вдоль дорожки ведра.