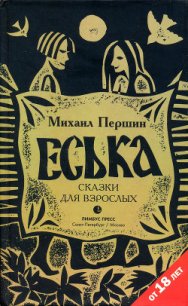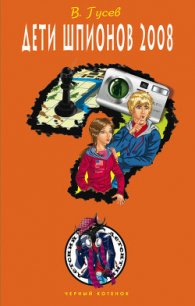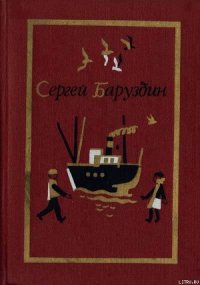Ворон на снегу - Зябрев Анатолий (библиотека книг бесплатно без регистрации TXT, FB2) 📗
Так вот и человек на своей линии, на своей вершинке, гнет его заодно с вершинкой, полощет, а ему ни туда, ни сюда не спрыгнуть, не скакнуть, пока уж что само собой не выйдет...
Барсуки. Человек из евреев
Далеко Оскомкино и от города с железной дорогой, и от Колывани, и от других селений — тоже. Путь сюда не прямиком — кружно, мимо лесных моховых болотин. Да и кружно не после всякого дождя проедешь.
А слухам-то все это ничего, яроводье им не помеха, слухи сюда на сорочьих хвостах летят. Сорок тут уж шибко много. И ворон тоже.
Слухи дошли: чехи сюда идут. Скот режут, людей стреляют.
Однако оскомкинские мужики судили:
— Есть же в Рассее, слава богу, кому остановить иноземца. Не допустят, чтоб он по нашим дворам разоры делал. Их вон, раньше-то, сколь на Рассею приходило — и монгол, и швед, — всех турнули. Вилы в бок и топор на то.
И еще слухи были про то, что по всем сибирском городам власть старая ожила и не только не пошла на чеха, а как раз наоборот — на чеха оперлась. А это уж вовсе пакостно. Советчиков, конечно, станут ловить и побивать в кровь, а остальных мужиков... Что с остальными мужиками будет-то?
Теперь оскомкинцы, те, что по весне гурьбой, в томлении надежды, сопровождали костлявого землемера-бегуна и получили земельные прирезки на бывших пароходчиковых займищах, заходя друг к другу во дворы, уже не толковали, а только угрюмо встряхивали головами и чаще оглядывались. Дым самокруток втягивали в себя глубоко, чтобы до печенки табачная горечь доходила.
К Алешке в межулок мужики не заворачивали — каторжный. Судили: тебе, залетному, осевшему на вдовье хозяйство, окромя земли Советами дадена еще и жатная машина, да плуг к тому же, да еще и новенькие фабричные тележные колеса с того же переселенческого склада. Вон куда! За здорово живешь всё, будто с неба привалило.
Мстительно судили: принял больше, теперь и не скули, в отместку себе получай. А как же? Резонно!
Сторонились мужики, обходили Алешку. И бабы тоже перестали к Домне Семеновне по соль, по перец да по другой нужде забегать. Потому как кому охота в чужое горе окунаться, когда своего по уши?
Ясно было: ждать надо чего-то худшего.
Между тем лето подвигалось, скоро подвигалось к своей середке, к своей крыше.
Поопали цветы по холмам, не стало там голубых, оранжевых, фиолетовых пятен, еще вчера так согласно притягивавших к себе полчища насекомых. И букетики жарков на лесных опушках уже не горели, они оставались яркими только у болот, где меж зыбучими кочками выжималась прелая вода. Но зато повсеместно набухли шапки белоголовника, распустились высокие ясные ветреницы, желтые щетки крестовников, и, конечно, колокольца всех мастей и оттенков, если войти в траву, ласкались к ногам.
Об эту пору в Оскомкине объявился чудной человек и сказал старосте Изосиму Ажуеву, что закупает живых барсуков. Мужики насторожились вовсе. Что это за промысел? Они могли предложить живых собак (их вон сколь шалых бегает), овцу или, на худой конец, кошек, но барсуков-то живых...
Алешка, однако, пришел в схожую и сказал тому человеку: требуемый зверь у него в хлеву не водится, но, если уж так надо, если уж деньги за это будут положены хорошие, он готов на такое дело, готов изловить не только барсука, а и самого болотного лешего. Над ним посмеялись, и нужный договор был сделан.
На этом, однако, можно было бы и не останавливать внимания, если бы тут речь шла только о ловле барсуков и ни о чем, кроме того, и если бы возникшая тут тропка не повела в дальнейшем наш рассказ к новому смыслу, к важным поворотам, доказывающим опять же, что жизнью нашей правит случай, а не какая-то логика, придуманная скучными теоретиками.
И вот в один из дней Алешка в телеге катил малонаезженным проселком. С другого края телеги, спиной к нему, спустивши ноги, обутые в мягкие бродни с голенищами по-за колена, сидел мужичок с лицом, похожим если не на ржавый обломок серпа, то на что-то такое же гнутое, с боков плоское, а спереди острое, в белой демикотоновой скуфейке; когда колеса на бегу оседали в колдобину или, наоборот, подпрыгивали на кочке, мужичок встряхивал локтями, натопыривал узкие плечи, отчего на его шее истертая, высушенная кожа собиралась в гармошку. Однако бодрился, смеялся и все выпытывал:
— А как насчет гульбы... гульливают ваши мужики-то?
— Дак гульливают, как без того, — отзывался Алешка.
— А баб-то своих поколачиваете крепко?
— Когда, бывает, и крепко, выпимши-то. А когда, бывает, так просто, попугнет кто. Бывают разные такие случаи.
Телега хоть и тряслась, прыгала, однако ход был мягкий, колеса Алешка перед дорогой новые надел, окованные, и у кузнеца побывал, чеки сменил. Лошадь трусила ровно, пружиня сухими мосластыми ногами. Обдавало вольным простором. Все это переплавлялось в Алешкино настроение, при котором хочется самому себе сунуть в бок тумака и прокричать на ветер: «Э-э!..» Так бы он и сделал, да вот рядом сидел чужой человек, и потому приходилось только отвечать на вопросы да подергивать вожжами. Алешка дотягивался и трогал ладонью иссиня-алые пуховки высокого, раздобревшего на теплой земле жабрея; он любил это колючее, с узкими бледными листьями, задиристое растение.
В телеге было четыре лопаты, две кирки, два топора, пучок тонких веревок, куски брезента, литовка, пара охапок свежескошенного у дороги в лощинке пырея, а поверх всего этого ворох проволочных клетушек, связанных одна с другой.
Вот уж лошадь стала тише трусить, круп и бока ее по низу запотели.
— А много ли еще пути? — спросил человек таким бесцветным голосом, каким спрашивают, когда безделье и одинаковость затягиваются сверх меры.
Прищурившись от встречного ветра, Алешка отвечал:
— А вот как увалы пойдут... Как березняки начнут западать в лощины, так тут и начнем.
Алешка между тем определял, не пора ли свернуть в нетоптаные травы и поехать вдоль колков уж вовсе по целику. Если и дальше этой дороги держаться, знал он, то версты через три или четыре она раздвоится, один отворот, правый, поведет на Колывань, а другой, левый, — на Сидоровку, Никольское, Кочетовку...
— Дождя будто не должно быть, — определил мужичок.
— Будто не должно. Облака жидкие, ежели не сгустятся. — Алешка потянул левую вожжу, лошадь пошла по целику, утонув сразу по оглобли в разнотравье.
Иные травы пышностью своей норовили удивить проезжих: голубой лотушок, желтые бородавники, золотарники, скерды, чернильно-фиолетовые осоты. Вынырнув сзади из-под телеги, татарники махали веселыми, озорными головками, довольные тем, что поиграли с лошадью, с людьми, спрыгнувшими с телеги на землю.
Балдушка-тылдушка только-только раскрыла розовые веки и глянула на божий свет. Она теперь, ведает Алешка, будет таращиться на небо аж до самых снегов. Никто не знает, отчего такое прозвище цветку: балдушка-тылдушка. Может, из-за того, что весь толстенький, доверчивый, бесхитростный, место его непременно на кочке, где и ветер гнет, и солнце печет. Так же до осенней студеной слякоти будут красить землю своим цветом короставник, сивец-синец, ветренцы-колокольцы...
Какая же это сила распорядилась, чтобы такую очередность травам устроить?!
Алешка шел, держась правой рукой за телегу, под которой пропали в многоцветном буйстве колеса, ступал отдохнувшими и вместе с тем замлевшими ногами, смотрел на празднично чистые березовые и осиновые колки.
В деревьях, в колках вот нету этой очередности, думал он. На деревьях почки по весне размыкаются разом, сережки и листья распускаются тоже разом, и по осени сырой ветродуй за одну неделю (а то и за одну ночь) с них сдирает разукрашенную одежку.
Сколько же тут еще простору для пашни! Богатеть бы тут мужикам, богатеть. Царевы, говорят, эти места были, кабинетовы. Ужель снова к царям отойдут? Если иноземец-то в помощь им.
Выметнулась из-под лошадиной морды буро-пестрая, величиной с шапку птица и, западая на один бок, стала подбито, подстреленно грести, трепать крылом по траве.