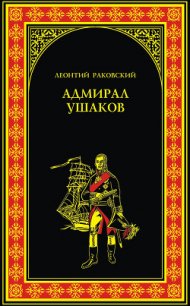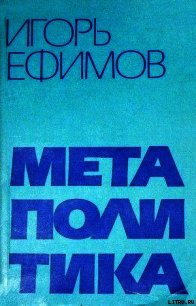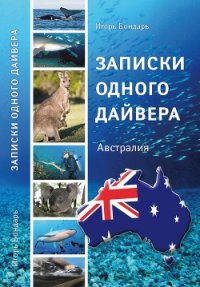Жил-был мент. Записки сыскаря - Раковский Игорь (книги регистрация онлайн txt) 📗
Более продвинутые сухопутные существа мужского пола для поддержки реноме вспоминают старика Конецкого, ехидно заметившего, что тупее лётчиков только моряки.
И вот по большому блату я на каникулы попадаю в качестве кухонного мальчика на судно (нет, не в медицинском смысле — о, русский язык!), а собирать очистки с тарелок и проч. недоедки с барского стола в бачок, прижимая его к пузу и зажмурив глаза, ибо возможности зажать нос по причине занятости рук нет, шустро подняться на палубу и с кормы на радость мерзким толстым чайкам вывалить его в кильватерную струю. Кухонным мальчиком я работаю на теплоходе «Вацлав Воровский», который шастает из Архангельска в МурмАнск, с заходом в Гремиху. И обратно из МурмАнска через Гремиху в Архангельск. Каботаж. Туда-сюда, обратно, тебе и мне приятно. Два раза в неделю. В Гремихе теплоход стоит, а по палубе шастает морской патруль с мичманом, а то и летёхой во главе и двумя матросиками. По громкой трансляции предупреждают, что фотографировать запрещено. Сопки, домики, зелёная вода — и бухта кажется озером. Деловитый морской кораблик, весь в сером, чешет куда-то по своим военморовским делам, ствол его пушки издалека похож на обгорелую спичку.
А вообще, «Вацлав Воровский» только вернулся с Кубы, и радист крутит «La Paloma», по-испански она звучит романтично, и чувствуешь себя пиратом на каторжных работах, строгающим дефицитную картошку в алюминиевую кастрюльку, на которой намалёвано размашисто красным «т/х В. Воровский». Наша Шульженко, исполнявшая «Голубку» надтреснутым голосом и привычным шуршанием заезженной грампластинки, кажется старой, никчёмой безголосой бабкой. Обидно это понимание, но испанские слова и звон гитары врезаются в мозг, и толстые, замотанные жизнью горластые тётки с венозными ногами уже Дульсинеи Тамбовские, а это не хухры-мухры.
На эту волшебную должность меня устроил мой приятель, с которым мы вместе стучали в футбол во втором составе футбольной команды «Труд», потом её переименуют в «Факел». Стучали в мячик мы не от хорошей жизни, а с целью получить талоны на еду. В то время спортсменам тренер, поплёвывая, выдавал маленькие кусочки бумаги с синюшной печатью, они сулили завтрак, обед и ужин. И мы ещё жили на базе отдыха, что гарантировало койко-место на целое лето, пионервожатых из соседнего пионерлагеря и сухое вино после отбоя под одеялом. Жизнь была прекрасна, пионервожатые — молоды и смешливы, вино — «Рислинг» дёшево. На комаров мы не обращали внимания. Но всё хорошее кончается, словно третья смена в пионерлагере под печальный звук горна и мелкий дождик. Прощальные поцелуи с пионервожатыми сладки и грустны, как предчувствие осени с горьким дымом сжигаемых листьев. Тренер зол, на поле в морду летят пучки мокрой травы, а мячик скользкий, и у форварда сухой лист не выходит, и бьёт он пыром, что вызывает смешки у нас, малочисленной публики, и плевок тренера на раскисшую гаревую дорожку, плавно обтекающую овал зелёного газона с двумя пролысинами у ворот футбольного поля. Мой приятель уходит в море, мы сидим в ресторане воронежского вокзала, на белой скатерти в металлических тарелках — эскалоп, в белом фаянсе с надписью «общепит» — салат столичный, запотевший графинчик
с водкой…
— Если что, помогу. Бывай.
Кишка зелёного поезда уносит моего друга в другую жизнь.
И мы встречаемся в Архангельске. Друг виновато косит глазом. Мы пьём отвратное пойло «Абу-Симбел», нас кусают зверские комары.
— В МурмАнске железно устрою, тут только к нам.
Я соглашаюсь. Утром иду в амбулаторию, сдаю спичечный коробок с калом, получаю на третий день санитарную книжку и становлюсь на вечную кухонную вахту. Туристов и пассажиров веселят, при прохождении Полярного круга их встречает Нептун и пара русалок с мурашками, холодно на верхней палубе, однако. На кухне готовят праздничный обед. Звучит музыка.
Пьяный в задницу турист требует от бармена «Мальборо». Бармен смотрит на пассажира грустно и говорит, что «Мальборо» нет.
— А это? — рука туриста-пассажира тыкает в сторону стенки за спиной бармена, где стоят молчаливо пустые коробочки и пачки из-под буржуйских сигарет, возглавляемые пустой бутылкой виски «Белая лошадь» и рома «Гаванна Клаб».
— Может, тебе мохито сделать? — спрашивает бармен.
Клиент понимает, что жизнь — это сплошной обман и иллюзия. Машет рукой и идёт в привычное, в каюту, где разливают водку и морская капуста из банки с надписью «Дальрыба» соседствует с бананами и чёрным кислым хлебом.
Я сижу на корме среди бачков с мусором и объедками. Курю, сопки Кольского полуострова то фиолетовые, то розовеют от света солнца, случайно, на минуту выглянувшего посреди серого низкого неба.
На верхней палубе музыка из серых и сипатых громкоговорителей. Концертный салон закрыт, в его глубине мрачно темнеет рояль, пряча белоснежные клыки под запертой крышкой.
Чайки с дебильным упорством летят за Воровским.
И хочется послать голубку к любимой. Только любимой нет. Не к пионервожатой же. От этого становиться грустно.
— Хуля, ты, бля расселся, ****ый попугай! Работать кто будет, Папа Карла?
И хватаю свои бачки, и вываливаю их. Чайки уходят в пике.
Сил хватает пробормотать вслед этой грёбаной романтике злобное «жрите, падлы».
В Мурманске в лучших традициях морских приключенческих книжек я сваливаю с теплохода с тощим рюкзаком, пью пиво на площади Пяти Углов и, почистив зубы горкой зубной пасты, выдавленной на палец, иду к проходной Рыбного завода, где надо найти Виктора Степановича, который устроит меня на сейнер. И нахожу, и устраиваюсь. В кубрике тихо и душно. На столике валяются прутики сирени. Июль. Вместо подушки ватник, новенькие резиновые бахилы под ним, их надо беречь, могут стырить, как и новые портянки в количестве четырёх штук.
Белая полярная ночь, плеск воды, рыбная вонь, заглушаемая запахом литой резины новеньких бахил, тяжёлая увесистость ножа успокаивает. И проваливаюсь в сон, а в мозгу навязчиво крутится мелодия «La Paloma», привязалось, не оторвать…Там, наверху, суетится народ… у нас тихо и спокойно…
Si a tu ventana llega Una Paloma,
Tratala con carino, Que es mi persona…
А мне летать охота
На детских фотографиях Светка была пухлой девицей и в объектив фотоаппарата смотрела весело и с надеждой, что обещанная папой птичка вот-вот выпорхнет. Птичка, увы, не появлялась. Это было обидно. Механизм внутри фотоаппарата безжалостно щёлкал железками, оставляя весёлое и отсекая грустное и обиженное. Светке фотоаппарат казался гильотиной с гравюры из старой папиной книжки, там голова, лежащая в корзинке, смотрела удивлённо и весело на окружающий её мир, уже чужой и далёкий.
Светин папа служил в КГБ, но об этом знали домашние и старый шкаф, где висела на плечиках папина форма. Фуражка, завёрнутая в газету, лежала среди коробок с обувью. В серванте в нижнем ящике тускло отсвечивала пара медалей и сверкали иностранные ордена величиной с чайное блюдце. Жизнь была безмятежная и весёлая. Светка жила с родителями сначала в Африке, а потом в Южной Америке. С лёгкостью трепалась на английском и испанском, русский ей казался странным и неповоротливым языком. Потом они вернулись в Москву, у них была новая трёхкомнатная квартира, вишнёвого цвета машина, и Светка поступила на первый курс иняза. Папа и мама уехали за границу. За Светкой присматривала бабушка, дама строгих правил и незыблемой диеты. Мама вернулась одна, потом привезли папу. Хоронили его на Востряковском. Было много людей, которые топтались в их квартире, курили на лестничной площадке, говорили полушёпотом. На стене висел папин портрет, на нём он улыбался и смотрел куда-то вдаль.
Мама пошла работать по специальности, медсестрой в госпиталь. Там были долгие дежурства. Светка легко сдала первую сессию. Дома было скучно и уныло. Потом у мамы появился ухажёр, его звали Фёдор Фёдорович. Он был толст, много курил и болтал без умолку. Папин портрет со стены перекочевал на стол в Светкину комнату. Бабушка жила на другом краю города и была занятым человеком, она ходила на курсы йоги и голодала