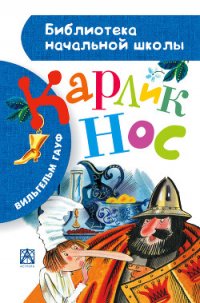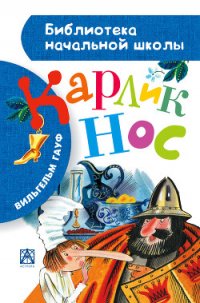Карлик - Лагерквист Пер (читать книги онлайн полные версии .TXT) 📗
Наш замок в трауре. Стены и мебель обтянуты черной материей, все говорят полушепотом и ходят на цыпочках. Придворные дамы все как одна в черных атласных платьях, а мужчины — в черных бархатных костюмах и черных же перчатках.
Всему причиной смерть Анджелики. При жизни она никому не причиняла столько хлопот. Но у нас при дворе просто обожают скорбеть. Скорбь по дону Риккардо сменилась теперь скорбью по ней, и, значит, он наконец-то по-настоящему умер. На этот раз не вспоминают, какова была покойница при жизни, потому что ничего особенного, ничего интересного в ней не было — да никто, кстати, и не знает, какая она была. Ее просто оплакивают. Все вздыхают над несчастной судьбой юной герцогской дочери и даже над судьбой Джованни, хоть он и принадлежал к вражескому роду, самому ненавистному из всех. Вздыхают над их любовью, в которой никто уже больше не сомневается, и над их смертью во имя любви. Любовь и смерть — излюбленные темы людей, ведь над любовью и смертью так сладко бывает поплакать, особенно если они сливаются воедино.
Герцог, видимо, искренне страдает. Так мне по крайней мере кажется: он совсем замкнулся и ни с кем не делится. Во всяком случае, со мной, а ведь, случалось, он радовал меня своим доверием. Но это бывало при совсем других обстоятельствах. Теперь же такое впечатление, что он, наоборот, избегает меня. Он пользуется моими услугами гораздо реже, чем бывало прежде. Письмо к Бернардо он отдал мне не прямо в руки, а передал через одного из придворных.
Иногда мне даже кажется, что он начал меня бояться.
Эта краснощекая деревенская девка, камеристка герцогини, лежит больная. Наконец-то она побледнела. Что с ней, интересно, стряслось?
Странно, но я нисколько не боюсь гуляющей вокруг заразы. У меня такое чувство, что я-то не заражусь, что я ей не подвержен. Почему? Да просто чувствую, и все тут.
Она опасна для людей, для всех этих созданий, которые меня окружают, — не для меня.
Герцогиня опускается все больше. Тяжело наблюдать этот упадок, это разрушение в ней самой и весь тот беспорядок, запустение и грязь, которые ее окружают. Единственное, что еще указывает на ее высокое происхождение и ее прежний нрав, — это то упорство, с которым она идет своим путем, никому не позволяя вмешиваться.
После того как заболела камеристка, никому не дозволяется к ней входить, и грязь в комнате неописуемая. Она ничего не ест и так истощена, что мне просто непонятно, как она еще не свалилась.
Я единственный, кому разрешено ее посещать. Она клянчит и молит, чтобы я пришел и помог ей в ее несчастье и позволил исповедаться мне в грехах.
Я не могу успокоиться. Я только что от нее и еще полон почти пугающего ощущения власти, какую я имею иногда над людьми. Опишу мое посещение.
В первый момент, когда вошел, я, как обычно, ничего не увидел. Потом проступило более светлое, несмотря на занавеси, пятно окна, а потом я различил и ее перед распятием, бормочущую свои бесконечные молитвы. Она настолько была погружена в молитву, что не услышала, как я открыл дверь.
В комнате была такая духота, что я чуть не задохнулся. Мне стало противно. Все мне было противно. Запах, полутьма, ее согбенная фигура ее худые, непристойно обнаженные плечи, выступающие сзади на шее сухожилия, неубранные волосы, похожие на старое сорочье гнездо, вся ее жалкая плоть, когда-то достойная любви. Я почувствовал что-то похожее на бешенство. Хоть я и ненавижу людей, но в унижении их видеть не могу.
Вдруг я услышал свой собственный бешеный крик впотьмах, раздавшийся прежде, чем она успела меня заметить:
— Что ты все молишься? Разве я не сказал тебе, чтоб ты не смела молиться! Мне надоели твои молитвы!
Она обернулась, не испугавшись, лишь тихонько скуля, точно побитая сука, и не отрывая от меня покорного взгляда. Подобное не умеряет гнев мужчины. Я продолжал безжалостно:
— Ты думаешь, ему нужны твои молитвы? Думаешь, он простит тебя, если ты будешь так вот валяться у него в ногах, и клянчить, и без конца исповедоваться? Не велик фокус покаяться! Думаешь, ты его обманешь? Думаешь, он не видит тебя насквозь?
Ты дона Риккардо любишь, а не его! Думаешь, я не знаю? Думаешь, ты меня обманешь, проведешь своим кривляньем, своими постами, своими бичеваниями развратной плоти? Ты по любовнику своему тоскуешь, а вовсе не по этому Распятому! Ты его любишь!
Она смотрела на меня с ужасом. Бескровные губы дрожали. Потом бросилась к моим ногам и простонала:
— Это правда! Правда! Спаси меня! Спаси!
Услышав ее признание, я окончательно вышел из себя.
— Развратная шлюха! — крикнул я. — Изображаешь любовь к своему Спасителю, а сама развратничаешь потихоньку с распутником из ада! Обманываешь своего Бога с тем, кого он швырнул в преисподнюю! Дьяволица ты проклятая, смотришь смиренно на Распятого и признаешься ему в своей пылкой любви, а сама наслаждаешься мысленно в объятиях другого! И ты не понимаешь, что он тебя ненавидит? Не понимаешь?!
— Понимаю! Понимаю! — стонала она, корчась, как раздавленный червяк, у моих ног. Мне омерзительно было смотреть, как она пресмыкается, меня это только раздражало, как ни странно, мне не доставляло ни малейшего удовольствия видеть ее такой. Она протянула ко мне руки. — Накажи меня, накажи меня, ты бич божий! — простонала она. И, нащупав на полу кнут, она протянула его мне и вся съежилась, как собака. Я схватил его со смешанным чувством отвращения и бешенства и стал хлестать ее ненавистное тело, слыша свой собственный крик:
— Это Распятый! Тот самый, что висит тут на стене, это он тебя бичует, тот, кого ты столько раз целовала своими пылающими, лживыми губами и говорила, будто любишь! Знаешь ли ты, что такое любовь?! Знаешь ли, чего он от тебя хочет?! Я пострадал за тебя, а ты об этом и не думала! Так узнай же сама, что значит страдать!
Я был совершенно вне себя, едва ли я сознавал, что делаю. Не сознавал? Как бы не так! Прекрасно сознавал! Я вершил свою месть, я взыскивал за все! Я вершил правосудие! Я осуществлял свою страшную власть над людьми! Но, несмотря ни на что, я не чувствовал настоящей радости.
За все это время она ни разу даже не застонала. Наоборот, успокоилась и затихла. И когда все было кончено, так и осталась лежать, странным образом избавленная мною от своих терзаний.
— Гореть тебе в геенне огненной! И пусть пламя вечно лижет твое гнусное лоно, изведавшее мерзкий грех любви!
И, произнеся этот приговор, я ушел, оставив ее там валяться словно в полузабытьи.
Я пошел к себе. С колотящимся сердцем я поднялся в покои для карликов и запер за собой дверь.
Пока я сейчас писал, возбуждение мое улеглось, и я чувствую только бесконечную опустошенность и пресыщение. Мое сердце уже не колотится, я не чувствую ничего. Я смотрю в пустоту, и мое окаменелое лицо сурово и безрадостно.
Возможно, она и права была, сказав, что я бич божий.
Сейчас вечер все того же дня, и я сижу и смотрю на город, который расстилается далеко внизу у моих ног. Уже опускаются сумерки, колокола прекратили свой погребальный звон, божьи храмы и человеческие жилища постепенно погружаются во мрак. Я различаю, как струйками пробирается между ними дым погребальных костров, и едкий смрад поднимается сюда ко мне. Словно густая вуаль опускается на землю, и скоро станет совсем темно.
Жизнь! Для чего она нужна, что в ней проку, какой в ней смысл? Для чего ей продолжаться во всей ее безнадежности и полнейшей пустоте?
Я перевертываю факел и гашу его об землю, и наступает ночь.
Девка-служанка умерла. Ее цветущие щеки не помешали ей умереть. Ее скосила своей косой чума, хотя об этом долго не догадывались, поскольку она не мучилась так, как другие.