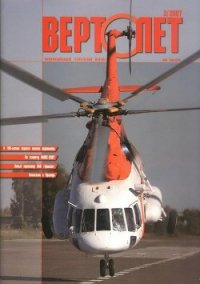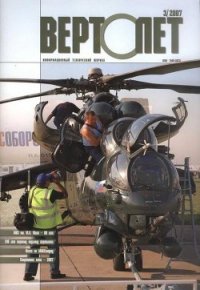Я ползу сквозь (ЛП) - King A. S. (книги бесплатно без .txt) 📗
Шейн закрыл лицо руками, и его слезы капают на старую красную плитку. Мужчина в костюме просит женщину проверить все кабинки.
– Убирайтесь! – отвечает она. – Это женский туалет.
Мне хочется позвать охрану. Или набрать 911. И вообще позвонить хоть кому-то. Но звонить некому. Звонить некому, совсем как в тот раз. Поэтому я глажу Шейна по холодной чешуйчатой спине и говорю, что все будет хорошо. А он гладит меня по двенадцатиперстной кишке и говорит то же самое. Мы сидим там целый час.
Когда мы выходим, Шейн боится наткнуться на мужчину. Я предлагаю ему снова вывернуться на правую сторону, но у него не получается, и я остаюсь пищеварительной системой и покупаю два билета до Пенсильвании. Ближайший автобус уходит через десять минут.
– Откуда ты тут взялась? – спрашивает Шейн.
– Хотела вернуться домой. Я сдалась. Ты не отвечал на звонки, и я подумала… ну, ты понял.
– Я стал ящерицей, – говорит Шейн.
– Не бойся, – отвечаю я, – я стала желудком.
– Я сломанный человек.
– Ничего, починим.
– Думаешь?
– Можешь мне поверить.
Мы спускаемся к выходам, высматривая мужчину в костюме.
– Его здесь нет, – произношу я.
– Он, наверно, захочет получить свои деньги назад.
Я не спрашиваю, за что он заплатил Шейну. Я достаточно знаю Шейна, чтобы догадаться.
– Пусть попробует подать в суд, – отвечаю я.
– Куда нам теперь идти? – спрашивает Шейн.
– Поедем ко мне домой.
Он вздыхает:
– Никогда не мог долго жить дома. Ни у себя, ни у других.
– Значит, если что, скажешь мне и мы сразу уедем.
Мы становимся в очередь на посадку, и Шейн отворачивается к стене. Очередь продвигается вперед, и мы наконец садимся в автобус. У меня с собой рюкзак с вещами, а у Шейна есть только телефон и та одежда, которая на нем.
– Можно мы там сходим за покупками? Мне нужна одежда.
– Конечно. А на первых порах возьмем что-нибудь у Густава. Он тебе понравится.
– А он сломанный?
– Мы все сломанные.
– Вот как.
– Ты идеально впишешься, – обещаю я.
========== Станци — вечер пятницы — двадцать вопросов ==========
Мы летим по синему небу, и я вижу только собственное голое тело, потому что не могу смотреть вверх. На моем правой ноге шрам. Он длиной сорок сантиметров и сантиметра три шириной. Он темный, как десны в глубине рта. Я не отрываю от него глаз.
Если сказать: «Когда я смотрю на шрам, я все вспоминаю», – это будет ложью. Я никогда не забывала, поэтому мне нечего вспоминать. И всем нам нечего.
Первым заговаривает Густав. Мы покинули Место Прибытий полчаса назад. Мы летим обратным рейсом. На карте крупными буквами написано: «Обратных рейсов нет». Я не умею ориентироваться по картам для вертолетов, но если бы умела, то точно сказала бы вам, что теперь Густав летит другим маршрутом.
– Простите, что так холодно, – говорит Густав.
– Ты не виноват, что тут холодно, – отвечает Патрисия.
– Я имел в виду… ну, простите, что нам всем пришлось раздеться.
– Быть голой не так уж плохо, – замечает Патрисия. – Мы как младенцы.
– Да, пожалуй, это довольно символично, – соглашается Густав.
Я чувствую, что они оба ждут, когда я заговорю, но я молча смотрю на шрам. Его легко не замечать, принимая душ. Если я не вижу его, его как будто и нет.
– Не думаю, что рождаться так холодно, – подаю голос я.
– Пожалуй, – соглашается Густав.
– Я даже думаю, что умирать не так холодно, – продолжаю я. – Моей сестре было шесть. Когда я обнимала ее в последний раз, она была теплой. – Все молчат. Я продолжаю: – Перед этим мы играли в «Двадцать вопросов». Была моя очередь. Мне было восемь. Я выбрала слово «вомбат», потому что она точно его не знала. – Все по-прежнему молчат. Говорим только мы со шрамом. Да, у него есть рот. Шрам говорит:
– Мы лежали на заднем сиденье смятой машины и ждали, пока нас кто-то вытащит, и я ве твердила: «Это вомбат! Это вомбат!» Кажется, с тех пор я ни разу не произносила слово «вомбат». Ни разу. Даже на биологии. Вомбат.
Я отвешиваю шраму оплеуху. Как он смеет говорить такое? Как он вообще смеет говорить?
– Станци! – окликает Патрисия. – Станци!
– Я не Станци. Я _____. И всегда была _____.
Я отвешиваю шраму еще одну оплеуху. Он ничего не чувствует. Ноги занемели от холодного воздуха. Я занемела от холодного воздуха. Я всегда была нема. Шрам продолжает говорить сквозь град оплеух:
– Я смотрела, как она пытается вдохнуть. Я чувствовала, как она умирает. К ее рукам прилипли соленые крекеры с арахисовым маслом. Ее любимые. Она так и не узнала, что такое вомбат, а я пыталась надуть ее, потому что она была слишком непоседливой. Но шестилетки всегда такие. Так говорили родители.
– О, Станци, – произносит Густав.
– Вомбат-вомбат-вомбат. Мы вместе играли с моим микроскопом. Мы играли в штаты – как в города, только названиями штатов. Она всегда неправильно говорила «Теннесси».
– О, Станци, – произносит Патрисия.
– Я никогда не позволяла ей одной переходить дорогу. Я не позволяла ей переедать сладкого. Я выключала звук во время рекламы, чтобы ей не промыли мозги. Я говорила ей, что никто и никогда не будет выглядеть как Барби. Я все время говорила ей, какая она умная. Однажды я научила ее делать бутерброды с сыром. Но она все равно не знала, что такое вомбат, и я сыграла нечестно.
Густав прижимается ко мне и обнимает одной рукой. На плечо мне ложится холодная рука Патрисии.
– Я хотела всегда быть Станци, – говорю я, рассматривая красные следы оплеух вокруг шрама. – Я хотела быть Станци, чтобы ты был Вольфгангом и все было хорошо. Я думала, что мы останемся там. Я думала, что это пойдет нам на пользу. Я думала, мы будем свободны.
========== Станци — утро субботы — семейный отдых ==========
Спать голышом на борту невидимого вертолета просто невозможно. Можно еще как-то притвориться спящей, но по-настоящему заснуть – ни за что.
Патрисия всю ночь пела. Она написала песню о том, как она свободна и летит, свернувшись калачиком посреди ночи на полу самодельного вертолета. У нее прекрасный певческий голос.
Густав выглядит раза в два более усталым, чем вчера. Он дрожит.
– Может, я сяду рядом или еще что-то придумаем? Ну, чтобы делиться теплом.
– Тебе нельзя шевелиться. У нас шаткое равновесие.
Патрисия смеется:
– Ничего, осталось немного.
– До чего осталось немного? – спрашиваю я.
– До приземления.
– Но туда мы летели почти два с половиной дня.
– Обратная дорога всегда вдвое быстрее, – замечает он. – Ты же сама всегда говоришь так, когда рассказываешь о вашем семейном отдыхе.
Я снова смотрю на шрам. Он открывает рот, прежде чем я успеваю накрыть его рукой.
– Это не отдых, – говорит он. – Я тебе врала.
– А куда вы ездите?
Я мысленно рассказываю Густаву и Патрисии все с самого начала. А вслух говорю:
– Я пишу тебе открытки, но никогда не отправляю.
– Но ты сказала, что соврала. Я не понял. Откуда ты берешь открытки, если не ездишь отдыхать?
Шрам снова открывает рот. И рассказывает про наш семейный отдых. Все с начала. Куда мы ездим. Зачем. Как мир разваливается на части. Я спрашиваю Патрисию, по-прежнему ли она довольна, что возвращается с нами.
– Вы жили в менее опасном месте, – замечаю я.
– Безопасность – ложь. Это как сэндвич с ветчиной без ветчины, – отвечает она.
– Как голубое небо в понедельник, если в среду идет дождь, – подхватываю я.
– Мне очень жаль твою сестру, – произносит она.
Я сплю наяву с закрытыми глазами. Я вижу четыре гроба. Мой красный, мамин синий, папин зеленый. Четвертый гроб вдвое меньше наших. На нем нарисован единорог и радуга. Мама с папой лежат с закрытыми глазами, но каждые несколько секунд они высовывают головы из гробов и проверяют, заснула ли я. Я притворяюсь спящей, и, когда они мне верят, они встают, берутся за руки и направляются к огромному гробу, стоящему у стенки в углу. Когда они открывают крышку большого гроба, оттуда раздаются голоса, смех и звон бокалов. Когда они закрывают крышку за собой, я приоткрываю глаза и вижу, что большой гроб – это «Чики-бар». А мы остались вдвоем. Я в красном гробу и она – в гробу с единорогом. И повсюду вомбаты.