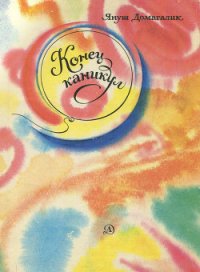Между строк - Домагалик Малгожата (книги бесплатно без онлайн .txt) 📗
А еще профессор Фолькер Штурм говорит с улыбкой, что он «не смеет исправлять Бога». Самое большее, что он делает, — приводит в порядок то, что изначально было самим совершенством, а со временем по каким-то причинам «испортилось, повредилось или загрязнилось». Электростимуляторы или стартеры, которые он подключает к мозгу своих пациентов, вовсе не являются, считает он, вмешательством в их душу. Они не изменяют идентичности пациента. Совсем напротив — они приводят его идентичность в нормальное состояние. Он считает, что операция на мозге имеет несколько другое измерение, в том числе в этическом отношении, чем восстановление сломанной ноги. Но если приглядеться повнимательнее, то можно заметить, что и в одном и в другом случае речь идет об уменьшении страданий и о помощи. Тот факт, что в мозгу возникают наши страхи, наши радости, наши печали, наше отчаяние, наша любовь и наше мышление, вовсе не означает для Штурма, что из-за этого мозг надо оставить в покое и не вмешиваться в его работу. Он бесконечно восхищен мозгом как органом. Он не верит, что в ближайшие сто тысяч лет удастся до конца понять законы его функционирования. Он не считает, что мозг — это всего лишь большой суперкомпьютер с бесконечно большой памятью и бесконечно быстрым процессором или что в мозге находится наша душа. Он полагает (а Штурм признался в разговоре, что он верит в Бога и думает, что Его существование когда-либо можно будет доказать), что душа локализирована ни в мозге, ни тем более в сердце. Она в человеке везде. Она что-то вроде «софта», который управляет нашим «хардом», то есть нашим телом. У каждого человека свой «софт» и свой «хард». Иногда в программном обеспечении появляются ошибки: Паркинсон, эпилепсия, опухоли мозга, депрессии, навязчивые неврозы. Тогда надо попытаться устранить их, эти ошибки.
Сегодня в полдень я сидел возле электрика, профессора, шарлатана Фолькера Штурма в самолете, летевшем в Женеву. Мне очень хотелось поговорить с ним. У меня были десятки вопросов к нему. Сама знаешь, как меня занимают проблемы человеческого мозга. Но… Взглянув на записи, которые он читал, я подумал: жаль времени. Его времени. Пусть он лучше спокойно подготовится к склейке очередной разбитой души…
Привет,
ЯЛ, Женева
Варшава, вечер
Януш,
мой отчим — врач, ему восемьдесят шесть лет. Когда я была юной, дома постоянно говорили о несчастных случаях и тяжелых операциях. О них рассказывал человек, который беззаветно любил свою профессию, и эта любовь была взаимной. Я ни разу не слышала, чтобы кто-то или что-то могло отвлечь его от вечернего обхода отделения, ординатором которого он был более сорока лет. «Иметь» в доме хорошего врача, о котором говорили, что он продвинул офтальмологию в Дольном Шленске, своего рода привилегия. Начиная с того, что я не боялась больничного запаха, потому что отчим (я называла его «папа») каждый день приносил его с собой домой, и заканчивая тем, что понятие профессиональной этики для меня не просто фраза. Мне нравилось, когда к нам в гости приходили другие врачи, потому что с их появлением возникало уникальное ощущение безопасности. Можешь болеть без страха, потому что вот они, люди, которые тебе помогут. А если серьезно, то я прекрасно понимаю тех, кто всегда хотел, чтобы в их семье был врач, священник или учитель. Отношение к смерти — еще один аспект, за который я благодарна родителям. Она неизбежна и обязательно придет — слышала я дома. Поэтому так важно то, что ты сделаешь со своей жизнью, прежде чем наступит конец. Ты уже слышал об акции, пропагандирующей достойную смерть, которую начала «Газета Выборча»? Смерть, вернее, как пережить уход близких людей — для многих из нас это по-прежнему табу. Граница, которую мы не можем переступить. Мы убегаем от того, что некрасиво выглядит, плохо пахнет и с чем, безусловно, трудно смириться. Согласись, это своего рода парадокс — мы не можем сдать экзамен по предмету, избежать которого не сумеем. «Выборча» публикует поразительные истории тех, кто в последние мгновения не держал руку умирающей матери. Тех, кто о смерти близких узнал слишком поздно. Тех, кто не может себе простить, что, когда настал момент, тот самый момент, они не произнесли слов, которые теперь их не покидают: «Я тебя люблю, ты был для меня кем-то особенным, ты не один». Вчера я разговаривала об этом с мамой. Она принадлежит к счастливчикам. Когда умирала ее любимая бабушка, она и ее мама держали ее за руку. Она умирала не одна. Можно ли в этот момент сделать для человека что-то большее?
С уважением,
М.
P. S. У меня нет детей, и, должно быть, поэтому на меня произвели огромное впечатление слова одной женщины, которая написала, что если ты бездетная, то умираешь полностью.
Франкфурт-на-Майне, вторник, ночь
Малгожата,
мне кажется, что каждый умирает в одиночестве. В полном одиночестве. Я пишу об этом окончательном уходе в моих книгах. С какой-то чуть ли не маниакальной привязанностью к этой теме. В каждой из них я ставлю себя и читателей лицом к лицу со смертью. Многие критики упрекают меня в этом в своих рецензиях. Для меня эта тема присутствует во всем, она универсальна; она потому так беспокоит меня, что я не могу осмыслить момент смерти до конца. А когда меня что-то беспокоит, мне хочется это проговорить, высказаться. И я проговариваю это, высказываюсь. В книгах, статьях, интервью. Я много писал о смерти и в наших «188 днях и ночах». Самое невообразимое для меня — представить, понять свое окончательное отсутствие, образующееся после моей смерти. Признаюсь, меня мало будет интересовать мир людей, для которых мое отсутствие станет болезненным. В отношении своей смерти я — абсолютный эгоист. Они остались. Может быть, со страданиями, может быть, с горем, вероятнее всего — с чем-то вроде грусти по мне. Но и это пройдет. Они привыкнут, что меня нет. Так же как и я привык к отсутствию моей матери, а потом и отца. Ну и к отсутствию многих других. Сначала было очень тяжело, потом я постепенно свыкался с их отсутствием и в конце концов приходил в некое равновесие. Но в момент собственной смерти я в любом случае буду один.
Мне кажется, нет такого рукопожатия, которое помогло бы мне спокойно, плавно перейти на другую сторону. Для меня смерть — квантовый скачок. До последнего момента мы в нее не верим, а сразу после этого момента нас уже нет. Поэтому и умирающая мать без детей рядом, и умирающая женщина, у которой не было детей, умирают одинаково. Обе не знают об этом. Так же как и электрон, который не имеет понятия, что в момент t он будет перенесен на другую орбиту или исчезнет во Вселенной в виде порции энергии (фотон). Нет последнего прощания с жизнью, потому что желание жить столь огромно, что никто в свою смерть в момент t не в состоянии поверить. Такой вот комментарий к твоим размышлениям. Заметь, что очень ко времени, потому что приближается момент, когда умы и сердца людей особенно заняты мыслью о смерти одного человека. Необыкновенного Человека. Приближается Пасха.
С тех пор как я живу в Германии (а это уже больше двадцати лет), я заметил некую календарную закономерность. Перед пасхальными праздниками немцы устраивают национальную исповедь. Не какую-то там покрытую тайной исповеди индивидуальную на коленях в церковной исповедальне. Традиционной (как в Польше) пасхальной исповеди здесь нет. Большинство верующих немцев не чувствует потребности рассказать о своих грехах другому верующему. Не обязательно немцу. Во Франкфурте во многих известных мне костелах осуществляют свое пастырское призвание (интересно, можно ли сказать, что они работают?) священники-иностранцы. Не редкость в таком космополитичном городе, что проповедь читает чернокожий священник, без акцента говорящий по-немецки, или белокожий священник (часто из Польши), говорящий с сильным славянским акцентом. Во Франкфурте-на-Майне людей оценивают не по акценту. И слава богу, потому что у меня ощутимый и характерный акцент; я заговорил по-немецки слишком поздно, когда мои голосовые связки были уже, к сожалению, полностью сформированы. Что интересно, по-английски я говорю без малейшего акцента.