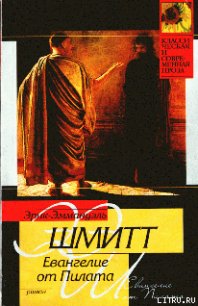Когда я был произведением искусства - Шмитт Эрик-Эмманюэль (электронная книга .TXT) 📗
— Приведи его ко мне.
— Он говорит, что сначала надо подать жалобу в суд.
— Я напишу заявление.
— Ты даже это не имеешь право сделать. Юридически у тебя нет никаких прав. Ты больше никто, Адам. Кроме меня и моего отца, никто не воспринимает тебя человеком.
Ворвавшаяся в зал очередная волна посетителей смыла Фиону.
Неужели на меня свалились новые неприятности? Может, я подхватил какой-то вирус? Или в моем ежедневном пайке вдруг оказалась какая-то зловредная бактерия? Лихорадка терзала меня, нанося удар за ударом. Холодный. Потом горячий. Я дрожал так, что мои зубы не попадали друг на друга, пока не свалился к закрытию музея со своего подиума без всяких чувств.
Предупрежденный охранником, Дюран-Дюран явился в мою камеру, пощупал мой пульс, измерил температуру, после чего презрительно просвистел:
— Обычный вульгарный грипп. Ничего страшного. Я дам вам лекарство, которое сам принимаю в подобном случае.
Свои слова он подкрепил многозначительной гримасой: «Вот видите, я вовсе не насмехаюсь над вами, я лечу вас как человека. Так чего вы постоянно жалуетесь?». И заставил меня проглотить что-то похожее на кусок гипса со вкусом лимона.
— Принимайте его по мере необходимости. Это превосходное средство от гриппа.
Лекарство действительно мне немного помогло. Дрожь постепенно утихла в последующие дни, оставив после себя лишь некое глухое недомогание.
В скором времени меня навестила Фиона с мэтром Кальвино.
Воспользовавшись рассеянностью охранников, знаменитый адвокат несколько минут пытал меня вопросами, стараясь найти в моих нынешних условиях жизни хоть какую-то зацепку, которая помогла бы запустить судебный процесс.
Мэтр Кальвино излучал бешеную энергию, как это частенько встречается у низкорослых людей. Свои коротко подстриженные волосы он тщательно приглаживал гелем, видимо, пытаясь скрыть свои отчасти африканские корни. Зычный голос, слегка хрипловатый из-за пристрастия к табаку, вырывался на свободу из мощной груди, обрушиваясь на собеседника сладко вибрирующими звуками виолончели. Чтобы он ни произносил, его слушали зачарованно, покоряясь глубоким и гармоничным переливам тембра, который, словно некое колдовское искушение, приковывал к себе внимание собеседника.
Во время нашей беседы я изредка бросал взгляд на Фиону, которая выглядела чрезвычайно бледной. Неужели и она захворала?
— Нет, ну просто непостижимо, — сказал в заключение адвокат, — я прекрасно вижу, как можно раскрутить это дело, но не знаю, от чего плясать. Нам не хватает лишь предлога для судебной жалобы.
Тут мэтра Кальвино перебили подбежавшие к нам охранники:
— Прекратите разговаривать с произведением искусства!
— Прошу прощения, — пришлось оправдываться адвокату.
Они с Фионой перешли в другой зал, затем, подождав, когда охрана вновь ослабит бдительность, вернулись к моему подиуму.
В этот момент Фиона вдруг зашаталась и мягко осела на пол.
Спрыгнув со своего подиума, я бросился к ней.
Она была в обмороке.
Склонившись над ней, я принялся осыпать ее поцелуями, шепча при этом самые нежные слова.
И тут же в мои плечи вцепились руки охранников.
— Скульптурам запрещено без разрешения спускаться со своего постамента!
— А ну-ка пошли к чертовой матери, или я заложу вас и расскажу начальству, что вы курите на службе.
Мои угрозы возымели действие, поскольку охранники принялись энергично чесать затылки.
В это мгновение Фиона приоткрыла веки. Улыбнувшись, она посмотрела на меня, показав рукой на свой живот.
— Теперь я частенько падаю в обморок.
Я не мог поверить своим ушам. Фиона кивнула:
— Да, я беременна.
Я застыл, ошеломленный свалившимся на меня известием. Прилив слез, теплых и влажных, переполнил мое горло, волна переживаний накрыла меня, и, задыхаясь от волнения, я рухнул рядом с Фионой. Рыдания душили меня.
Вдруг за моей спиной раздался радостный звонкий голос мэтра Кальвино.
— Она беременна. Вот и выход!
Мы с Фионой повернулись к нему и, продолжая заливаться слезами, с недоумением уставились на него. Солидный адвокат скакал вокруг нас, пританцовывая, как мальчишка.
— Ну, конечно же, как же я раньше не догадался! Фиона подаст жалобу в суд на том основании, что отцу ее ребенка препятствуют исполнению своих родительских обязанностей. Процесс в наших руках!
Следующая ночь была просто ужасна. Несмотря на переполнявшую меня радость при мысли о предстоящем процессе, который должен дать мне свободу жить с Фионой и своим ребенком, я без конца ворочался в постели на пропитанных от пота простынях. Оставившая меня на время горячка вновь заявилась ко мне, принеся с собой тяжкие думы. В моем воспаленном мозгу роились убогие планы побега, отчего я ощущал себя все более и более беспомощным. Я со страхом думал о том, что не дождусь ни конца этой ночи, ни продолжения моей жизни.
Поднявшись на рассвете, я заметил на постели жирные желтые пятна. И тут же почувствовал, как сильно чешется мое тело. Когда я ощупал себя перед зеркалом, мое высушенное бессонной ночью сознание в один миг прояснилось: стало понятно, откуда эти жуткие пятна и мучившая меня чесотка — из моих шрамов шел гной. На рубцы было страшно смотреть: из открытых ран вытекала густая жидкость, с которой выплескивались наружу отходы моей жизнедеятельности и от которой горело буквально все мое тело.
Я долго стоял под холодным душем, затем, стиснув зубы, прижег спиртом самые болезненные насечки, оставленные поработавшим над моим телом хирургом, присыпал их тальком и, не сказав о случившемся никому ни слова, отправился на работу в музейный зал.
Я простоял на подиуме не более пяти минут, когда у меня в голове созрело твердое решение. Не обращая внимания на расстилавшийся передо мной ковер школьников, которые, сбившись в кучу под присмотром учительниц, усердно зевали, глазея на меня, я спрыгнул на пол и направился к выходу.
— Стой! — закричал охранник.
Я продолжал свой путь, словно не слышал крика за спиной.
— Стой! — приказал другой охранник, расставляя в стороны руки, чтобы задержать меня.
Я оттолкнул его в сторону и перешел в соседний зал.
— Тревога! Тревога!
Оглушительно зазвенел сигнал тревоги. Дети тут же испустили не менее оглушительные крики, застигнутые врасплох одновременно мучительным неведением того, что происходит, и радостным открытием, что вокруг наконец что-то происходит. По центральному коридору раздался нестройный топот тяжелых сапог.
Впереди меня выстроилась целая шеренга охранников, которые, сцепившись руками, перекрывали мне путь.
Не замедляя движения, я обрушил на ближайших двух град ударов, разорвав цепь пораженных неожиданному нападению церберов, и двинулся дальше.
— Схватить его! Быстро!
Новоиспеченный хранитель музея Дюран-Дюран тоже выскочил в холл, организовав на ходу контратаку. Сзади на меня набросилось сразу несколько охранников. Взревев как лев, с непонятно откуда взявшейся энергией, я хватал их и, покрутив над собой, по очереди разбрасывал в разные стороны. Ко мне бросились другие, но я вновь легко, как котят, расшвырял их по углам. И тут до меня дошло, откуда взялась неожиданно обретенная мощь: стоило мне подумать о Фионе, о ее мягком шелковистом животе, в котором спал наш будущий ребеночек, как я становился непобедимым.
Я открыл дверь и оказался на залитой солнцем улице. Дюран-Дюран, красный как рак, с набухшими от волнения венами, которые бешено пульсировали на шее, готовые вот-вот лопнуть, схватил пистолет из кобуры одного из охранников и направил его на меня.
— Ни шагу больше, иначе стреляю без предупреждения.
— Не будете же вы, право, дырявить шедевр из коллекции музея. Вы же хранитель музея, а не разрушитель?
— Я выполняю свой долг.
— Ваш долг — следить за тем, чтобы не портились произведения искусства.
Я шагал по улице, рассекая толпу попадавшихся на моем пути прохожих. Некоторые из них, увидев меня, впадали в столбняк, другие прятались в машинах или забегали в магазины, словно за ними гнался выскочивший из клетки тигр.