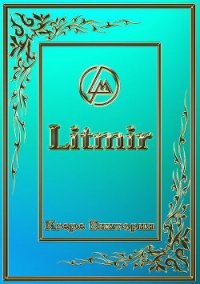Мой «Фейсбук» - Зеленогорский Валерий Владимирович (читать полные книги онлайн бесплатно txt, fb2) 📗
Целый год он почти не выходил из дома, не брился и не смеялся, он почти не работал, делал лишь самое необходимое, чтобы было на что есть.
Только когда дочь заходила к нему в комнату на цыпочках и брала своими ручками его голову, на несколько минут пожар в его голове переставал пылать, и он немного отдыхал; так продолжалось целый год, ровно год он носил неведомый траур. Так принято у евреев, сказал ему коллега одобрительно, и тогда он сразу очнулся.
Он не ездил на кладбище: что он мог сказать камню, который стоял вместо нее среди чужих могил; в нем что-то надломилось, служившее раньше опорой.
Настолько явно он чувствовал себя сиротой, настолько ощутимым, физическим было его одиночество, что только девочка с заботливыми ручками, снимающая его боль, удерживала его на этом свете.
Чтобы не сойти с ума, Миша начал работать, сделал хорошую передачу, имевшую бешеный успех, и получил Тэфи; ему стали платить приличные деньги, он отремонтировал дачу и стал жить там почти постоянно.
Вскоре после триумфа он поехал в Израиль, как член жюри какого-то конкурса. Он первый раз был в Израиле и смотрел там на все с опаской; неприятности начались еще в аэропорту, когда его доводили сотрудники службы безопасности; они задавали ему тупые вопросы и совершенно не реагировали на его возмущение и протесты.
Он кипел и лопался от злости, а они все спрашивали о целях его приезда и в каких он отношениях с сопровождающей его переводчицей.
Он не понимал, что им надо, что они ищут в его компьютере и почему десять раз в разных формах они спрашивали его, есть ли у него родственники в Израиле.
Когда в одиннадцатый раз девушка спросила его про родственников, он ответил с жаром и яростью, что, слава богу, нет, дав своим ответом повод еще к серии вопросов: не антисемит ли он и есть ли у него друзья-арабы.
И тогда Миша вскипел, как тульский самовар, и понес их по кочкам; он припомнил евреям все, но, на счастье, девушка, знавшая русский, отошла к другому туристу, а марокканцу его переводчица переводила совсем не то, что он говорил; через пять минут его, как ни странно, пропустили.
Он был в святых местах; он бродил по Иерусалиму, но ему не было места ни у храма Гроба Господня, ни в мечети Омара, ни у Восточной стены; он не чувствовал себя в этом месте своим.
Ему все казалось, что он в Диснейленде мировых религий, где все желают только сфотографироваться на фоне святынь.
Миша видел только пыльный город, и у него разрывалась голова, как у Понтия Пилата из книжки Булгакова, которую он считал переоцененной.
Он чувствовал себя неуютно с чужими людьми, совсем не похожими на людей в Москве, которых он понимал с первого взгляда — они могли ничего не говорить, он и без слов знал, что они сделают и что скажут в любой момент. Его не трогал берег моря, само море, и только шум базара у окон гостиницы по утрам занимал его, когда жара еще не растапливала его мозг слепящим солнцем. В такие часы он выходил на улицу и шел на рынок Кармель, где торговцы раскладывали товар; они были разноязыкими, разной веры и разноцветными, но, видимо, ладили и даже дружили, как члены одной корпорации.
Коты разных мастей бродили в рыбных и мясных рядах, их никто не гнал, и они получали свою долю при разделке.
Через рынок шли пьяные проститутки с соседней улицы, они закончили трудовую вахту и шли к морю, смыть чужой пот и сперму, всю грязь, приставшую к ним за ночь.
Они покупали себе на завтрак овощи и горячие булки, сыр и что-то похожее на кефир, они брели на еще пустынный пляж и мылись там голышом, и рабочие из стран паранджи и бурнусов смотрели на голых теток — пьяных и веселых, смотрели, как те моются и как едят свой горький хлеб, а потом спят на лежаках, за которые с них не брали ни шекеля бедные гастарбайтеры — из классовой солидарности.
Конкурс закончился, и на пресс-конференции Миша разнес весь Израиль в пух и прах; он припомнил им и убитых арабов, и агрессию против Египта и Ливана, и сионизм, и то, что в мире им до всего есть дело.
В конце своей тирады он задал риторический вопрос: а не пора ли им уже знать свое место и не смущать народы своими идеями и идейками.
Его освистали, задали много вопросов с ядом, но он все выдержал и решил, что выиграл бой с идеологическим противником.
Утром все газеты вышли с его портретом на первых полосах, его сняли в таких ракурсах, что всем становилось ясно: это очень неприятный человек с неприятными мыслями; все обозреватели вылили на него ведра яда и помоев и припомнили ему все гадости, которые он высказывал для утверждения своей позиции; все это он читал в холле отеля, где на него поглядывали, как на звезду.
Когда он закончил читать и отшвырнул от себя мерзкие газеты, к нему робко подошли два человека — мужчина сорока лет, напоминавший ему кого-то очень знакомого, и милая девушка в форме офицера полиции; они подошли, поздоровались, и мужчина спросил на очень плохом русском, не Мишей ли его зовут — и добавил фамилию.
Нет, ответил Миша почти вежливо и отвернулся.
Пара переглянулась, и в разговор вступила девушка-офицер, похожая на тех, кто отравлял ему жизнь в аэропорту, она показала ему фотографию мужика, которого он знал — он знал его всю жизнь, он выучил все его детали, часто тайком от мамы он доставал фотографию из железной коробки, где лежали документы, и изучал ее, пытаясь понять, как этот человек оказался его отцом, как такое несчастье могло случиться…
Миша разглядывал фото часами, он мечтал встретить его и сказать ему все слова из своего немаленького словаря; о том, что он тварь и законченный подонок.
Спросить о том, какое он имел право приблизиться к маме и как он сумел совратить ее своей гитарой, своей подлой улыбкой…
Он знал, что должен был сказать ему, эту речь он учил все свои сорок пять лет, и он знал, что по ненависти и страсти ей место на Нюрнбергском процессе.
Девушка увидела, что с ним происходит, дала ему передохнуть, а потом мягко и застенчиво стала говорить такое, что у Миши в четвертый раз кольнуло в сердце и он почти задохнулся.
«Мы ваши родственники, ваш папа, наш отец, умирает, мы просим вас поехать к нему попрощаться, это его последнее желание».
Она замолчала. Миша хотел крикнуть им, что ему не нужны новые родственники и объявившийся папа, что он всегда желал ему сдохнуть в страшных судорогах, ему хватает своей семьи и чужого ему не надо.
Миша уже открыл рот, но не сумел выговорить ни слова; будто откуда-то ему пришел какой-то сигнал, и тогда он безмолвно пошел за ними к машине.
Пока они ехали в клинику, Лия (так звали девушку) рассказала, что их отец лежит с инсультом и говорить не может; она еще рассказала Мише, что отец часто говорил своим детям о нем; он первые годы часто писал его маме, но та не отвечала; он отмечал его день рождения много лет, говорил детям, что у них в Москве живет брат и он умный и талантливый.
Миша слушал эти слова, и они ему казались бредом, он не понимал, кто эти люди, которые называют себя его родными, он не понимал, зачем он идет к незнакомому, чужому старику, умирающему в чужой стране; человек не может умирать два раза, он своего отца давно похоронил, и ему нечего делать в царстве мертвых, у него и так там уже все, кого он любил; но он ехал — со страшным, губительным интересом; он в какой-то момент захотел увидеть раздавленного болезнью старика, посмотреть на причину своих страданий, потешить свою месть, увидеть возмездие человеку, ядовитая кровь которого не давала ему жить все эти годы.
Они приехали и пошли огромной лестницей на четвертый этаж, где была реанимация, перед входом в палату он вздохнул, но вошел решительно.
На высокой кровати лежал старик, большой крупный человек с серебряной бородой; лицо его было спокойным, и глаза были прикрыты. Лия подошла к кровати и, встав на колени, поцеловала старику руку, старик открыл глаза, и Миша понял, что тот его видит и понимает, кто он.
От его взгляда в Мише что-то вспыхнуло, забурлило, щемящая жалость пронзила его, и он заплакал, страшно, содрогаясь плечами, не стесняясь, завыл, как воют евреи на молитве в особые минуты, он встал на колени рядом с Лией и поцеловал руку своему папе, которого он так ждал многие годы, которого он ненавидел и любил; слезы лились водопадом — все слезы, которые он держал в себе все эти годы, выливались из него; дамба, которую он возвел титаническими усилиями, рухнула, и слезы затопили всю его душу, он плакал — за маму, за себя, за этого старика, который лежит неподвижно, он плакал за всех.