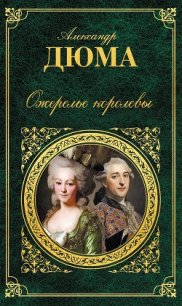Ожерелье Мадонны. По следам реальных событий - Блашкович Ласло (читаемые книги читать онлайн бесплатно TXT) 📗
Вы оглядываетесь, вам нужно время, чтобы понять, что к вам прижимается и подсовывает под вашу руку свою никакой не метафизический Меркурий, божественный соблазнитель полутрупов, но знакомая вам Наталия, вила из Круга сербских сестер, где вы только что окропляли сироток холодным молоком из ваших плачущих грудей. Не вздрагивайте, картина весьма сильная, но у нас мало времени. Срежете через парк.
И пока вы с непониманием слушаете коммуникативно щебечущую подругу, замечаете на ее лице и шее свежие молочные пятна, давно умершие платаны и будку для лебедей, полную железных зубов. Иными словами, не замечаете ничего (как всякой здешней, вам надо куда-то уехать, чтобы прозреть), только замерзшую точку на носу, последний укус какого-то забытого пуантилиста.
И на всей этой однозначной картине, которая проглатывается залпом, как испаряющееся лекарство, торчит только одна тень (вы комично об нее спотыкаетесь) — какого-то несчастного малыша, который стоит лицом к лицу с потрескавшейся березой, собираясь, наверное, облегчиться, вы неприметно улыбаетесь. Обрываете лепет Наталии, опуская кончики пальцев в скользкой перчатке на ее верхнюю губу, молча указываете ей на спешащегося паренька, который все еще корчится. Что-то не так, он слишком долго находится в этой позе, и тогда, несмотря на общее неудовольствие, вы должны посчитаться с этим. Если он пробудет так еще некоторое время, то окоченеет, как старомодная скульптура, вы вновь ежитесь. Вы должны обратиться к нему. Решительно сворачиваете со своего пути. Наталия прижимается к вам. Вы подходите к мальчику.
Он вас все еще не замечает, у него несколько грубый профиль, вероятно, из-за этой сибирской аритмии, замерзшими пальцами пытается расстегнуть множество пуговок, подпрыгивая от нетерпения. Желтые слезы делают его гримасу более живописной. Вы отпускаете Наталию, слегка оттолкнув ее, прикусываете шов на кончике среднего пальца и зубами стаскиваете перчатку, молча и решительно беретесь за пуговицы. Наталия с любопытством и наигранным испугом выглядывает из-за вашей спины, мальчик смущен, но не сопротивляется вам, дыша на окоченевшие, одеревеневшие пальцы. Наконец, путь свободен. Все еще не поздно! С шаловливой тенью на лице (есть ли хоть что-нибудь в этой опустошенной мясной лавке?) решительно запускаете руку в гульфик паренька…
Только бог и Наталия увидят то же, что и вы. Наталия прикусит губу, а бог, например, небесную грудь. В общем, вы поперхнетесь. Потому что вместо петушка, скрюченного, как поросячий хвостик, вытащили наружу, на кусачее солнце, крепкий хоботок, вполне пригодный для жесткого порно. С тихим возгласом выпустите из рук толстенный канат, из которого брызнет золотистая жидкость.
Машинально оботрете о себя руки, и вы, и Наталия (она решила пощупать, посмотреть, настоящее ли это, или же какая-то детская уловка, обманка, пистолет-пугач), испуганно замрете, сделав шаг-другой.
Парень, сколько тебе лет, — спросите вы хором.
Увидите угасающую струю, дымящуюся лужу, мясистое сияющее лицо, бесстыдно повернувшееся к вам.
В июне стукнет тлицать тли, — оскалится карлик, с ладонями, поднятыми в воздух, как у хирурга, готовящегося к аборту. Извините, не велнете ли его на место?

Конечно же, вторую половину истории я рассказываю сам себе, сон начал одолевать вас уже на второй четверти, когда было холоднее всего, когда ледяные сталактиты и сталагмиты росли и с языка, и с нёба. Я ничтожество, трус, рассказываю только то, что подходит. Думаете, я решился бы по-другому? Не сиди я в тюрьме, наверняка стал бы придворным поэтом. Нет, я никогда не бываю искренним, искренность не существенна для литературы. Если бы вы меня действительно слушали, я бы по-другому рассказывал. Моя дочь встречалась с каким-то музыкантом, проходимцем, ни имени, ни лица его не помню, и отмечала Новый год в доме глухонемых. Они чувствуют вибрацию, — уверяла она меня, — и просто не переносят фальшь. Но запаздывают, следуют за тональностью. Поэтому знаю, что вы меня поймете, потом, позже, когда смолкнут звуки, хотя, надеюсь, тогда я буду уже далеко.
Кстати, тем карликом всегда был я, это, по крайней мере, очевидно. Правда, с конечностями и членом нормальной длины, даже чуть выше среднего роста, но все-таки карлик с короткой, тулуз-лотрековской тенью, важнее опустошенного трафарета, сохнущего в лунном свете.
Опять-таки, вместо карлика я мог бы быть и негром, нашим, местным черным (например, из Сербской Черни, ах, игра слов — пустое занятие, головокружительная карусель, легкое пьянство), ребенком какого-нибудь беглого или съеденного африканского студента, или дипломата из банановой республики, с дерева. Ничего бы по существу не изменилось.
И как мне, такому, говорить от чьего-то имени? Кого я представляю, кроме нескольких городских гномов, которых я избегаю, как и они меня? Я — рассказ из вторых рук. Фальшивый домашний деспот без имени.
Сон вас совсем лишает сил. А пробуждение — еще больше. Именно вам лунный свет отливает идеальную посмертную маску. Сижу у вас в ногах и прислушиваюсь, дышите ли вы. Так я, молодой, трясся над своими слабенькими дочками. Внезапная младенческая смерть — по-прежнему тайна. Что это, на первый взгляд беспричинно, что заставляет их отказаться прежде, чем они начали? Нет никакого видимого признака, симптома, смысла. Просто случается. Вы, верно, слышали об этом?
На лице у вас новые тени. Я больше не узнаю вас. Но и меня охватывает усталость. Хотя это эфирное чувство можно скорее назвать безволием. Небрежностью. Осторожно ложусь рядом с вами, не укрываясь, затаив дыхание, отчего сердце мое безумствует, и его слышно изо рта. Ваше полупустое брачное ложе скрипит под моей легкой полнотой. Вы шевелитесь. Еще чуть-чуть, и вы скатитесь в мои объятия. Мои глаза слипаются. Соскальзываю в полуобморочное состояние. Больше не в силах бояться отдаленных шагов. Поздно возвращаться, остаюсь. Склоняюсь к вашей голове. Я уже давно сплю. И если вы меня хоть немножко слышите, то утешьтесь тем, что это просто бормотание, какой-то темный, обезличенный диктант, из никому не известных глубин.

Монах бежит. Это меня разбудило. Откровенно говоря, если придираться, то это была тахикардия, мое сердце с рождения плохое, кто знает, из-за каких родительских грехов, и я, в крови и слизи, задыхающийся от собственного крика, был мягко извлечен из материнской утробы и передан в натруженные руки акушерки, оказавшись в фокусе спонсорского интереса, по крайней мере, одной орисницы, она могла предсказать мне судьбу Ахилла: короткую жизнь и большую славу. Но в ту ночь, когда я родился, все небо было в бесформенных облаках, не было видно ни лучика света, и уж тем более невозможно было с уверенностью утверждать, под какой звездой я родился; часы доктора тикали своенравно, настенный календарь кто-то перевернул вверх ногами, так что для коммуникации по гороскопу, если вы это имели в виду, я определенно не гожусь. Да и все вилы-самодивы в ту ночь лежали в своих капсулах в состоянии глубокой гибернации. Или же у них в других кварталах были более важные дела. И только мама, одурманенная наркозом, посмотрела в мое синее сморщенное личико. Держись, — со стоном сказала она. Наверное, себе.
Между тем, я рос и толстел сам по себе, смирясь с тем, что доктора покачивали головами, порок сердца, это звучало даже неплохо. Из-за какой-то механической аномалии у меня смешивалась артериальная и венозная кровь, я братался сам с собой, счастливый бастард. Я привык к мысли о том, что умру молодым. И каждое утро, проснувшись, отмечал, что шансов на это у меня все меньше, и считал, сколько совпадений я упустил.
Я мог позволить вшить мне в грудь новые клапаны, пластмассовые или свиные. Но все откладывалось, затягивалось, то не было ниток, то у хирурга дрожала рука, то пила затупилась, и так, непонятно каким образом, дотянул я до статуса благородного старого пня. Ни прославившийся, ни мертвый. Но и не особенно живой. К тому же порядком растолстел, хотя и без этого дыхания не хватало. И мои внутренние органы были закопаны так глубоко, что я их вообще не чувствовал, они меня не радовали и не огорчали. Сейчас сердечко мое время от времени придавливает, к горлу подкатывает, как правило, под утро, потрясенное, видимо, сном. Это я, наверное, имел в виду, утверждая, что две вещи связаны — сердечная инфляция с эрекцией (эрос + танатос, разумеется) и тот монах. Который бежит.