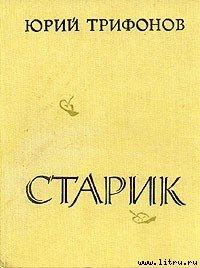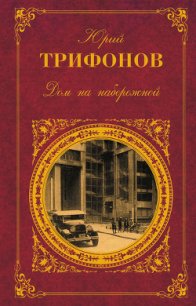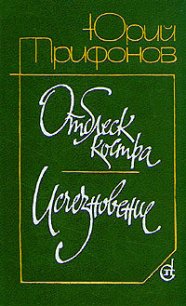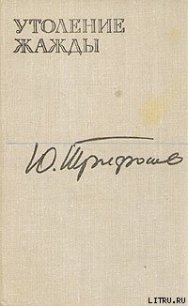Время и место - Трифонов Юрий Валентинович (мир бесплатных книг .txt) 📗
– Ну, ну? И немец, значит, вас сразу признал?
Интересно, как за три недели чуть изменилась речь, проскальзывают словечки, которых раньше Антипов не применял – «признал» вместо «узнал», – и не нарочно, не подлаживаясь, а как-то само собой. Привык к этим словечкам, как к махорке, а о папиросах забыл. Яким рассказывает, Антипов строчит, откуда-то выскочила белая, с куцым задком собачонка и запрыгала, закружилась, гавкая по-дурному на небо.
– Гоняй, гоняй их! Умница, Бельчик, – говорит Яким. – Гоняй их, чертей.
Над низинкою кружат коршуны, медленные, светло-коричневые, с темными крыльями. Девчонка несется с трещоткой, крича весело:
– Шугай, шугай, шугай!
Коршуны нехотя, делая обширные петли, отдаляются ввысь, пропадают. Яким говорит, ненадолго, они висят тут, над фермою, целый день, и кое-что им порой перепадает. Из домика вышла девушка с черными распущенными волосами до плеч, несет таз с бельем, и Антипов видит – Наташа.
Вскакивает, роняя наземь книжку и карандаш.
– Ты? – говорит Наташа и подходит, улыбаясь, трогает его спокойной рукой. – А я знала, что ты появишься. Только думала, раньше.
Он ошеломленно молчит. Ведь почти забыл про нее. Нет, не забыл, но она там, давно, в неизмеримо далеком. Забыл о том, что она здесь и что приехал из-за нее. С изумлением глядит на нее: худую, почти тощую, обожженную грубым загаром, кожа облупилась на носу, на резких скулах; в прорехе короткого сарафанчика видно темное от загара тело. И видно, что под платьем нет ничего. Как же она тут ходит, при мужчине? Да ведь слепой...
– Я стала некрасивая?
Он покачал головой.
– Глупо! Как будто была красавицей... Ты смотришь на меня, как собака на жука, озадаченно... Повернув голову набок.... – она показывает.
Он видит смеющийся рот, белые зубы. Берет его за руку и ведет в дом. Большая старуха сидит на мятой постели, должно быть, лежала, сейчас поднялась, села и кивает, трясет космочками, шепчет добродушное, у нее коричневое, в керамических складках, широкое книзу лицо и узкий, непроглядно черный кавказский глаз. Такой же, как у Наташи. Она ее прабабушка. Наташа говорила, кто-то у нее из черкесов. И откуда все это? И надолго ли? Прабабка плоха, и невозможно уехать. Еще недавно, год назад, она ходила за птицей, была совсем ничего, а теперь ноги как чурбаки. Прабабке семьдесят восемь лет.
А Яким – вот он вползает, стуча палкою по порожку – прабабкин внук, точнее сказать, внучатый племянник. Наташе он двоюродный дядя. И ему, как и бабке, помощи ждать неоткуда, родные погибли. Ему жениться надо, он не старый еще, здоровенный, рука у него, как капкан. Поймает пальцами – не вырвешься. Сила неимоверная, девать некуда. А жениться не хочет.
Слепой сидит на лавке, слушает про себя, головой никнет, соглашается.
– Сватают за него одну девушку старую. Почему не хочешь, дядя Яким?
– Потому нельзя меня полюбить, – быстро произносит Яким привычный ответ. – Меня пожалеть можно. А таких-то мне не надо.
– Она говорит – может, говорит, полюблю.
– Ха! Жди! Полюбит кобыла хомут...
Голос у Якима почему-то веселый, в пшеничных усах улыбка. И какая-то в нем нервность и нетерпение – сидит неспокойно, все палкою в пол тихонько колотит. Вдруг спрашивает:
– А вы, товарищ Антипов, когда в Москву думаете вертаться?
– Дня через три.
– Так скоро? – удивляется Наташа.
– Ха! – говорит Яким. – В гостях, скажи, хорошо, а дома лучше...
Наташа ведет в птичник. Он за ней, как во сне. Рассматривает, плохо соображая, небольшой базок, где пищат за невысокой огорожей цыплята, ныряет в полутьму, оглядывается, дышит тяжелым воздухом зоопарка. Пол птичника заляпан пометом. На жердях прохаживаются, выжидательно косясь на Антипова, куры. Несушки забрались на верхние желоба, сидят там, невидимые в охапках соломы. И голос Наташи в этой сутеми, в птичьей вони, в ворошении, шуршании:
– Не могу вернуться туда... Когда-нибудь смогу, а сейчас нет... В октябре поеду в Саратов, там место нашли в детском театре. А может, никуда.
– Здесь останешься? С курами?
– С бабкой. Она лучшая из всей моей родни. И как жаль, что встретились под конец жизни...
Пошаркивание, постукивание, и дядька Яким влезает в душную полутьму.
– Я что хочу сказать, товарищ Антипов: волки мучают, а лисы особенно. Так что сон у петухов, как говорится, смутный...
Быстро меркнет день. Сидят при свече, в чугунке яйца, хлеб пшеничный кисловат, молоко густое, тяжелое, Антипов привык к такому, запах от молока – телесной свежести. Разговаривают до мрака, до поздних, ночных звезд, и Яким сидит тут же, хотя его не слышно, дела до него нет, он зевает, сопит, то ли дремлет, то ли сторожит что-то, не уходит. Живет он во втором домике, там, где женщина, что больна малярией. Прабабка давно заснула. Разговаривают о каких-то пустяках, о московских забытостях, ненужностях, но думает он о другом: что соединило их ненадолго? И что разбросало? И теперь зачем-то опять? И есть ли во всем этом летучем и странном смысл? Зачем-то выпал из громадного мира слепой и, постукивая палкой, привел в зеленую котловину. Расспрашивая о пустяках, Наташа думает: смысла нет. Она разрушена смертью. И нету сил восстанавливать то, что разрушилось, поэтому смысла нет. А нашли ли того, кто убил Бориса? Того н е ч е л о в е к а, который ударил по голове, как по мячу? Она искала одно время сама, рылась по всей Пресне, среди жулья и в закусочных, у пивных ларьков, на бегах и в бильярдных, и, если б наткнулась на его след – конец. А потом поняла вдруг: сходит с ума, надо бежать. И убежала. Но убежать нельзя.
– Милый, ты не поймешь, кем он был мне. Мой первый во всем... И сейчас без него я стала другой. Даже не другим человеком, другим существом...
Ему хочется сказать, что и он стал другим за время разлуки – он напечатал рассказ и узнал, что такое любовь. Стал настоящим мужчиной во всех смыслах. Но говорить об этом вслух неловко, к тому же тут сидит слепой и слушает. Антипову слепой нравится все меньше. Нахальный! Явно показывает, что имеет на Наташу права – уж не права ли отцовства?
– Я тоже стал другой, – говорит Антипов. И добавляет со значением: – Совсем другой, можно сказать.
Взяв Наташину руку, прижимает к своему рту, она не сопротивляется. Смело потянул ее всю к себе, она гибко и тихо передвигается к нему на лавке, и он обнимает ее, приникает губами к худой, солнцепеком каленной шее, к губам, на них горечь, они стали сухими и твердыми, но они не сопротивляются, ничто не сопротивляется, ее тело послушно и вяло и спокойно принимает его беззвучные ласки. Слепой ворохнулся, поднял голову, его настораживает наступившая тишина.
– А что, товарищ Антипов, – говорит он. – Какой ныне час?
– Ты иди, дядя Яким. Спокойной ночи. Я сейчас стелиться буду.
– А товарищ Антипов?
– Нет его. Ушел товарищ Антипов. Иди, иди, Яким Андреич!
Слепой сидит минуту или две, замерев, голову опустив на грудь, вслушивается напряженно, потом поднимается с лавки и говорит:
– Здесь он. Я его дух слышу. Брехать зачем? Да по мне, хоть тут десять останься...
И медленно выбирается из комнаты. На дворе лает собака. Холодная ночь течет в дверь. Они выходят под звезды, потом возвращаются. Наташа задувает свечу; Антипова бьет дрожь, наворачиваются слезы, и то, что происходит, совсем не похоже на то, что было с той женщиной и с Сусанной, ч т о – т о д р у г о е переполняет его. И на глазах слезы оттого, что бесконечная жалость, невозможно помочь, надо прощаться, жить дальше без нее. Утром прабабка шепчет песню, а он записывает: «За речкой за Курой, там казак коня пас, напасемши, коня за чимбур привязал, за чимбур привязал, ковыль-травушку рвал, ковыль-травушку рвал и на золу пержигал, свои раны больные перевязывать стал...» Пройдет много лет, и он поймет, что ч т о – т о другое, переполнявшее его три ночи в степи, было тем, не имеющим названия, что человек ищет всегда. И в другое утро, когда председателева бричка стоит на бугре, ездовой Володька скалится сверху, делает какие-то знаки, а слепой Яким стоит навытяжку, как солдат, и держит в руках крынку с медом, и жизнь рухнула, и томит боль то ли в сердце, то ли в животе, и Наташа сидит рядом, глядя на него с улыбкой, он записывает последнюю прабабкину песню: «А я коника седлаю, со дворика выезжаю. Бежи, мой коник, бежи, мой вороник, до тихого Дунаю. Там я встану, подумаю: или мне душиться, или утопиться, иль до дому воротиться...»