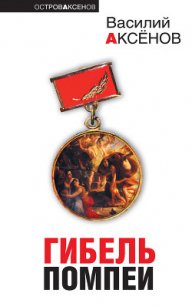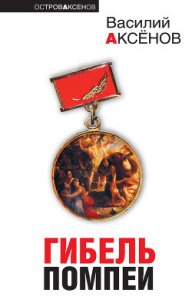Оспожинки - Аксенов Василий Павлович (книги онлайн бесплатно серия .TXT, .FB2) 📗
Дождь прекратился. Вроде разом. Так мне сквозь дрёму показалось. Когда я вылез из постели, не лил уже он, даже и не крапал. Только по запотевшим стёклам окон капли извилисто стекали – в память о нём, ночь не стихавшем.
Разъяснело. Звёзды, как новенькие, заблистали. Месяц взошёл – растёт, – над ельником сияет, остророгий.
Над Камнем светлая полоска обозначилась – день намекает, что грядёт. Как опустившиеся сверху, истощившиеся, обессиленные тучи – туман над Кемью рваными клочками – Камень собою заслонил – кипит тот будто.
Тепло.
В ограде, на мураве, лужи стоят ещё – прозрачные. И ручеёк даже бежал – теперь иссяк.
Кошки по мокрому – траве или настилу – бродить не любят, только когда нужда заставит их, проскачут скоро, словно по горячему, – сидят сейчас, скучные, поджав под себя лапы и сгорбившись, где сухо.
Несу, под их внимательными и не мигающими взглядами, как под обстрелом, подойник с тёплым молоком. В свежем и влажном воздухе утра пахнет им, как от коровы. Не пью парное, ещё пенистое. Пью только то, которое хотя бы час после доения постоит в холодильнике и остынет; пенка из сливок для меня не соблазнительна, было б холодное, и только. Мама за это на меня ворчит: дескать, придумал, горожанин; из-под коровы надо пить – полезно, в ём витамины самые, мол, – знает; вот, мол, Васюха – тот не брандует. Значит – не брезгует парным. Соглашаюсь с мамой, одобряю брата, но, пока молоко не охладилось, и стакана не осилю. А раньше за один приём мог, не моргнув, и литр выпить тёплого, из-под коровы. Совсем не брезгую, а просто разлюбил, отвык ли от него, пока был в армии.
«Вот уж Васюха – молодец, тот – как телёнок», – говорит иногда мама, приводя Василия в пример мне.
«Он, – говорю на это маме, – и от сливок не отказывается».
«И от сметаны… Ну, дак и правильно, – говорит мама. – Не чета некоторым».
Некоторые – это я.
«Молоко – это живая вода, – говорит мама. – А чай – мёртвая… Всё чай и дуешь».
То есть – смерть.
Дую.
Разувшись в сенцах и вступив в дом, поставил подойник в кухне на стол, после смотрю в окно, уже в прихожей.
Выходит, вижу, мама из двора с конём, его к верее приставляет, калитку закрывает на вертушку, опять берёт в руку коня и идёт с ним по ограде в сторону крыльца – едет.
Будто предчувствую – вдруг обмираю… Спотыкается она и падает плашмя и со всего маху на землю. Тут у меня и сердце обрывается…
Ног под собой не чувствуя, из дому пулей вылетаю и подбегаю к ней, лежащей.
Пошевелиться не может, только охает.
– Мама, мама, – говорю бессмысленное, что с языка срывается. – Что же ты так, ну, что же такто? – Квохчу, как курица-наседка.
Не отвечает мама мне.
Поднял её, повёл под руку.
Плачет беззвучно и без слёз. Листок травинки на её щеке – прилип, мокрый. Не убираю.
И мне – хоть плачь, переживаю. Отдал бы ноги ей свои, да невозможно.
Коня оставив на крыльце, рядом с дверью, чтоб не искать его потом, за ём не бегать по деремне, в дом вступили.
Посадил я маму на стул в прихожей. Сидит. Всхлипывает насухо. И говорит, словно оправдываясь:
– Сыро так, и оскользнулась.
Мне бы сказать: «И каждый, мама, мог бы подскользнуться», – но говорю иное, глупое:
– Мама, ну надо как-то осторожней.
– Брось где передо мной соломину, я об неё запнусь, как о бремно… И так хожу, куда уж осторожней… Еле плетусь… как черепаха. Отец ваш когда-то, – говорит мама, – идёт, идёт, вижу, и ни на чём вроде повалится… Я, помню, думаю, чё он всё падат?.. Теперь и я такая же, не лутше.
Помог ей снять с себя мокрую и испачканную кофту.
– Стирать на днях её хотела… Больше уж месяца хожу в ней, управляюсь, гамном уж пахнет от неё, теперь вот – повод… Руки не гнутся… Юбку я как-нибудь сама… Спасибо, Ваня.
Помог встать со стула, проводил до кровати.
– Не люди усмирят глупого человека, дак старось – на то она ему, наверное, и дадена… Таких, как я, ничем не усмиришь, похоже… Молоко уж, – говорит, – после процежу… как очураюсь.
– Я процежу.
– Ну, Ваня, банки-то найдёшь… Там, на буфете… Мытые. В одной сыворотка была, бычку, поить пошла его, дак вылила… не мытая. Ту не бери. А в чистые.
– Найду.
– Найдёшь, конечно… Потом помою, чуть одумаюсь… А на комоде, – говорит, – в передней, коф та синяя и юбка чёрная… суконная. Увидишь, милый… Принеси.
Сходил в горницу, нашёл на комоде в аккуратно сложенной стопке белья кофту и юбку, выстиранные и поглаженные, принёс их маме. Сам отправился на кухню молоко процеживать.
– Вставь, – говорит вслед мне мама, – в банку ситечко, в него уж марлю положи.
– Соображу! – отвечаю.
– Ну, кто знает, – говорит мама. – Это Васюху уж, того учить не надо. А ты-то… сроду не касался.
Наполнил две трёхлитровые банки молоком, пропустив его через ситечко и через марлю. Сразу поставил банки в холодильник.
– Там чё в подойнике осталось, кошкам снеси, – говорит мне, слышу, мама. – И в мою чашку мне налей. Она стоит на подоконнике. Приду, дак выпью. Витамины… Зачем, спрашивается, оне мне, старой, эти витамины, сама не знаю… всё чёто тоже… будто городская… Без витаминов раньше жили.
– Снесу! – с кухни откликаюсь. – Налью! – говорю.
Отнёс кошкам молока. Чуть не до кромки сковороду, вылив из неё сначала дождевую воду, им наполнил. Сбежались с разных углов и щелей сами, взрослые и котята, не манил их. Меня они, как маму, не сбивают с ног, как кони. Вздёрнув и распушив хвосты, на безопасном расстоянии топчутся, но к посудине не подходят – меня боятся. Только тогда, когда я, поставив на скамейку пустой подойник, направился к крыльцу, брезгливо, но стремительно просеменив по мокрой мураве, накинулись они на живую воду. Лачут, друг дружку, как собаки, не отталкивают.
Смотрю, ворона прилетела. Наша, сретенская. На столб плюхнулась. Гордо вскинув испачканный в чём-то тёмно-зелёном клюв, в небо косо, будто на коршуна, смотрит, но на самом деле наблюдает за пиршеством кошек. Всем своим видом, прежде всего рассчитанным, конечно, на меня, а не на кошек, знать даёт: мол, захотела – прилетела, где, мол, хочу, там и сижу. Сиди уж, ладно, кто-то будто гонит. Ещё вдруг каркнула зачем-то – не на меня ли?
Сердце давит – маму жалко. Чем поможешь? В том и беда, что ничем. Моё сочувствие ей сил моих не передаст. Побыть лишь рядом.
Вернулся в дом.
– Кошкам налил? – спрашивает мама, услышав или узнав по дёрнувшейся шторе, что я вошёл.
– Налил! – отвечаю.
– Голодные… Ну, а подойник я ополосну.
– Я, мама, сам ополосну!
– Еслив не трудно.
– Сразу забыл… задумался… о кошках.
– Ковшик?.. Я не брала его. В подсобке, может…
– Я говорю: задумался о кошках!
– Про кошек он. А я – про ковшик… То всё ходить мне… Днём-то обсохнет, может, дак тогда.
– Да не заботься.
– Не заботься… Убил бы несколько хошь, что ли… Или бы в лес увёз и там бы их оставил.
– Проси Васюху.
– Тот такой же, стой на тебя.
Вышел из дому, зачерпнув в подсобке из котла, нагретой для управы водой ополоснул подойник, опрокинул его в ограде на столе, на котором мама моет и оставляет просыхать банки. Сделал всё так, как делает она.
Наколов под навесом дров, вернулся в избу. Подступил к маме. Плачет она, обиженная на себя, на свою немощь, без слёз, одним лишь подбородком.
– Мама, – говорю.
– Вот так, сыночек, – говорит. – Ишь, до каких мне пор пришлось дожить… уже за воздух спотыкаюсь.
– И я такой же, – говорю, – буду… Доживу если. – Ладно, что кости-то хошь целы, не сломала…
Доживёшь, – говорит. – Куда денешься. Это уж я-то лишнего немного прихватила.
– Мама, не надо.
– Ну, не буду.
– Тут чужого не прихватишь. Сколько назначено.
– Я понимаю.
– Чай, – говорю, – поставлю, заварю.
– Не моя на то воля… Зачем-то держит… Поставь, – говорит. – Завари… Да ты поел бы чё-нибудь.