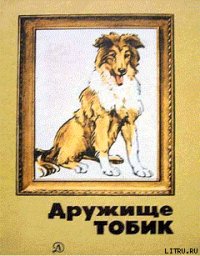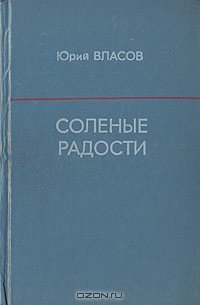Стужа - Власов Юрий Петрович (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .txt) 📗
Уютно журчит вода в батарее. В коридоре шуршит бумагой Киска. Ночь безразлично вперилась в меня из окна. Один пытливый прямоугольник глаза. Все время подглядывает. Око ночи…
Размышляю о языке последних работ. Письмо стало суше, хотя я могу писать любой вязью. Что это?..
Бело-рыжим острием, чуть отклоняясь, но совсем недвижно струится пламя свечи. Похоже, здесь, у стены, нет сквозняков.
Лежу тихо, чтобы не побеспокоить жену, — наши комнаты впритык. В зиму эта боль за грудиной уже не в первый раз.
Дабы не тешить ночь, разглядываю картины: смазанные сумраком пятна на стенах. В дальнем углу — два зачехленных ружья, одно десятого калибра, лупит дай Бог. Под ними грудой свалены резиновые чучела уток. На столе пишущая машинка «Оптима». В книжных шкафах пестрят корешки и обрезы книг. Там же патроны — на всякий случай.
Надо мной метровый лист ватмана: карандашный рисунок обнаженной девушки — курсовая работа жены. Рисунка не вижу, но помню отчетливо. В нем нет тупой выделанности каждого штриха. Он ясен и свободен. И девица там, надо сказать, в порядке. Дети от такой должны быть здоровыми. Без злобы…
Этот черный прямоугольник окна преследует меня всю зиму. Умышленно не запахиваю шторы. Хочу приучить себя к ночи, однако порой не выдерживаю. Будь неладен этот бесконечный траур!..
В стеклах отражается пламя свечи. Со двора на оконном лотке смутно белеет снег. А дальше — темень, темень…
Надо иметь привычку к русской ночи. Что же она таит для меня? Неужто будущее столь неотвратимо? Я прочитываю его однозначно…
Сердечная боль слабеет. Дышу глубже. На всю грудь воздух.
У боли короткая память. Я уже позабыл о ней и размышляю о нынешней зиме. Такие зимы на всю жизнь в памяти. Морозы, а между ними — бешеные снегопады. И морозы — бешеные.
Вспоминаю заснеженный лес, стежки следов, сугробы, пустые деревья. Бывают разрывы в коре на ладонь длиной, и глубокие, будто кто грубо растянул кору и луб, — не все переживут эту зиму.
И ни дорог, ни земли! Снег, снег и узенькие тропочки — еще сыщи их…
«Русские зимы, — раздумываю я, — черные провалы за островками света у домов. Чуть развиднеется — и уже лиловатые тени. И студеные шквалы, царапанье снега в стекла, погромыхивание ставен — неживая жизнь в немом черном потоке. И с каждой неделей выше и выше заносы. И уже с полудня сытые сумерки — муть за окном…»
Вспоминаю ответ Шарлотты Корде — убийцы Марата. Ее спросили в трибунале:
— Кто внушил вам такую ненависть?
Корде ответила:
— Мне не нужно было ненависти других, достаточно было своей собственной…
Сердце угомонилось. Не слышу его. Пока оно в союзе со мной. Впрочем, не хватит дыхания — сдохну, и все… А пугать — мы тут с самого рождения пуганые…
Встаю. Мечется язычок свечи.
Пью из кружки. Поглядываю на себя в дверное зеркало: заметно погрузнел — это новые мышцы: одежка подходящая. Я таким всегда буду. Хочу жить и умереть сильным. А раз хочу — так и будет. Ставлю кружку на тумбочку. Изображение в зеркале кривится, скачет. Свечной огарок недоволен моим поведением: тоже подавай смирение. Пощелкиваю пальцем по барометру. Стрелка едва заметно смещается вверх. Стало быть, без перемен.
— Что, старина, нас дерут, а мы крепчаем? — говорю ему. Это мой давний друг. Мы часто беседуем в таком роде. Он у меня не ханжа. А повидал, надо полагать!.. Родился он в конце прошлого века в Риге. Перед его стеклянной мордой такие чудеса творились. Я купил его по случаю, мы сразу сдружились.
Сажусь на диван. Пробую мышцы: не оплошают. Без рекордов я банкрот. Должны они двинуть мою жизнь. Глажу мышцы, бормочу что-то. Опробываю затвердения, запоминаю, где, в каком волоконце опасный натяг из-за усталости… Хорошо меня обложили: без сборной, без помощи, в одиночестве. Есть и такие правила игры.
Ласкаю, ласкаю мышцы. В них мои надежды, мой смысл. Они должны оплатить все мои счета, и не только за дом и рукописи. Будет счет и Главными Книгами…
Рекорды — это газеты с моим именем, а это на пользу рукописям: их ведь стопорят. Эти правила игры не мои — я только принял их от тараканов. Принял, но не подчинился. Рекорды двинут спортивную повесть.
После я думаю о том, что это еще не все: я очень люблю силу. Все глумления жизни над нею так и не отравили высокое чувство.
Ледяной пол загоняет на диван. Лежу и стараюсь в своем воображении обойти то будущее, что стережет нас. То, что там есть для меня и жены, нужно обойти.
«Мама, это человек или нарочно?..»
Не помню, как затушил свечу…
Сон обновил. Я не стал цепляться за остатки его, а нажал кнопку. Лампа вспыхнула. Все-таки дали свет, прохиндеи. То поезда не ходят, то света нет, то продукты надо чуть ли не зубами выдирать, в общем, скучать не дают.
Выщупываю мышцы бедер — недовольны, болят: это из-за проходки в рывке. А вот боль в сухожилиях на правой стопе — это, как говорится, хужее. Там возможен разрыв. Уже подмочалил их.
Встаю, иду прихрамывая к батарее: горячая. Следовательно, топка в порядке. Можно спокойно умыться и глотнуть кофе из термоса, а после заняться ею. Я ведь еще и кочегар.
Нас дерут, а мы крепчаем…
Оконный проем по-прежнему беззвучно мажет ночь. «Давай, давай», — хрипловато со сна бормочу ей, недобро бормочу. Нас примирить невозможно. Какая-то железная ночь, для России бы правильнее — «ночь в железах».
Одеваюсь и размышляю:
«Тренировки стали емкими: ни на что прочее нет сил, да и время требует — так, огрызки остаются всему прочему. Сумею ли эти несколько лет заниматься на равных спортом и литературой? Ведь одно исключает другое. На таком уровне — только так…»
Через сорок минут уже стучу на машинке, ворошу рукопись, правлю, горячусь. Я очень люблю мир своих рассказов, а сейчас я собираю сборник…
Мышцы на руках немеют. Я отрываюсь от машинки, опускаю их и жду, когда прильет кровь.
Я вглядываюсь в рукопись — ведь уже живая. Там своя жизнь: звуки, запахи, слова, лица. Я все это вижу… Опять ее изуродуют, а то и вовсе не дадут хода. Странная эта жизнь… Борьба за красоту… инструкциями ЦК…
Когда в кончиках пальцев исчезает покалывание, я снова печатаю.
Я закрепощен — ни движения без боли и свободы. Будто обложен кирпичами — и каждый давит. Отдых еще на подходе. Я только начал тренировки на освобождение силы, но нервы уже приняли первый отдых. Я это вижу по рукописи. Ну, тараканы, кажется, я вас еще раз шурану!..
А в памяти — она… Нет, она прожгла меня ненавистью — это не обида, нет!..
Я «засаживал» этот рассказ от души. И скоро пошел вразнос. Это особое состояние: вдруг все обретает выразительность, выпуклость и прозрачность — только поспевай ловить и класть на бумагу.
Я даже прозевал, когда встали жена и дочь. Они уже научены и по стуку машинки знают, как мои дела. И никогда не беспокоят, пока я сам не вывалюсь из кабинета. Это счастливые минуты и для меня, и, надо полагать, для них…
Лишь раз я отвлекся, когда вкладывал очередной лист в машинку.
«Насколько хватит меня?» Я задумался не столько над гладиаторством, а над тем, что останется после — от меня останется. Для письма это очень важно, каким я останусь. Страшно не развалить себя, я уж и так этим занимаюсь не один год, а добиться права писать, уже не имея на то сил…
Во рту стоял привкус лекарства, и я отхлебнул кофе из кружки.
Это не моя блажь и страсть к превосходству: медали, рекорды, пустоглазые интервью и вообще напор всего крикливо-мускульного. Просто без этого не обойтись… Я должен пробиться к праву говорить… А я пробьюсь…
Когда я кончил работать и прикреплял новые страницы к черновику, ночь за окном перешла в синеватые сумерки. Из мглы сыпал мелкий снежок. Это сулило трудную дорогу и работу с лопатой.
Поодаль, над острыми верхушками елей, снег смыкался в сплошную белую завесу.
Я распахнул дверь и пошел к жене. Я нес рукопись.
Это как ритуал. Мы выстояли еще один день…