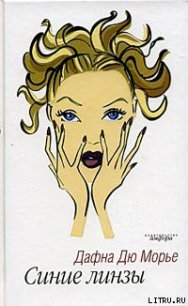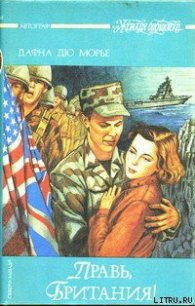Паразиты - дю Морье Дафна (полная версия книги .txt) 📗
— Почему ужасно? — спросила Фрида.
— Потому что это не то, чего я хочу, — ответил Найэл. — У меня в голове масса звуков, но они никак не выходят наружу. Вернее, выходят, но складываются только в глупые танцевальные мелодии.
— По-моему, это не имеет значения, — сказала Фрида, — была бы мелодия хороша.
— Но это такая ерунда, — сказал Найэл, — кому охота сочинять танцевальные мелодии?
— Многие пожертвовали бы глазом за такое умение, — возразила Фрида.
— Ну и пусть, — сказал Найэл. — Могут взять мои.
Фрида продолжала курить через длинный мундштук, и ее глаза смотрели доброжелательно. Найэл чувствовал, что она понимает.
— По правде говоря, меня весь вечер сводит с ума одна мелодия. Мне нужен рояль, но где его взять, ведь банкет закончится только ночью. Не могу же я выставить вон того малого в оркестре.
Найэл рассмеялся. Какое смешное признание. Но Фрида, казалось, вовсе не сочла его признание смешным. Напротив, приняла как нечто вполне естественное, как в свое время его желание пойти в уборную или то, как будучи еще совсем маленьким мальчиком, он съел целую пачку миндального печенья.
— Когда эта мелодия пришла к тебе в голову? — спросила она.
— Я бродил по Пиккадилли, — ответил Найэл. — Слишком переживал за Марию, чтобы смотреть спектакль. И вдруг она пришла — мелодия: ну, знаете… снег, фонари, рекламные огни. Я вспомнил Париж, фонтан на Place de la Concorde. He то чтобы они подсказали мелодию… Не знаю, не могу объяснить.
Некоторое время Фрида молчала. Официант поставил перед ней креманку с мороженым, но она жестом отказалась. Найэл пожалел о ее поспешности. Он бы сам съел мороженое.
— Ты помнишь, как танцевала твоя мать? — неожиданно спросила Фрида.
— Да, конечно, — ответил Найэл.
— Помнишь танец нищей девушки под снегом? Огни в окнах дома. Ее следы на снегу, и руки движутся в такт падающим снежинкам.
Найэл смотрел прямо перед собой. Казалось, в его голове что-то щелкнуло. Нищенка под снегом…
— Она пыталась дотянуться руками до света в окне, — медленно проговорил он. — Пыталась дотянуться до света, но была слишком слаба, слишком устала, а снег все падал и падал. Я совсем забыл этот танец. Мама очень редко исполняла его. Кажется, я видел его только один раз в жизни.
Фрида закурила следующую сигарету и вставила ее в длинный мундштук.
— Тебе только казалось, что ты забыл. На самом деле это не так, — сказала она. — Дело в том, что музыку для танца нищей девушки написал твой отец. Это единственная вещь, которую он сочинил.
— Мой отец?
— Да. Думаю, именно поэтому твоя мать так редко исполняла ее. Это очень запутанная история. Никто толком не знает, что произошло. Твоя мать никогда не рассказывала об этом даже друзьям. Но суть не в том. А в том, что ты композитор, хоть и не сознаешь этого. Мне безразлично, что рождается в твоей голове — польки или детские песенки. Я бы хотела услышать твою мелодию, услышать, как ты играешь ее на рояле.
— Почему вам это интересно? Почему вас это волнует?
— Я была большим другом твоей матери и очень привязана к твоему отцу. В конце концов, я и сама неплохо играю.
Она повернулась к Найэлу и рассмеялась. Он почувствовал, что под воротничком у него становится горячо. Какой ужас. Он совсем забыл. Ну конечно же, она играла на рояле и пела в кабаре; возможно, и до сих пор поет. Ему следовало бы знать. А он помнил только Concours Hippique и пачку миндального печенья.
— Мне жаль, — сказал он, — мне ужасно жаль.
— Чего? Единственное, о чем я жалею, так это о том, что завтра тебе надо возвращаться в школу и я не услышу твою мелодию. Ты не можешь зайти ко мне домой утром перед отъездом? Фоли-стрит, дом номер семнадцать.
— Мой поезд отходит в девять часов.
— А я через два дня уезжаю в Париж. Ну что ж, ничего не поделаешь. Когда закончишь школу, мы что-нибудь придумаем. Расскажи мне обо всем. Старушка Труда еще жива?
С ней было так легко разговаривать, легче чем с кем бы то ни было, и Найэл пожалел, когда она встала и попрощалась с ним.
На противоположном конце стола все громко смеялись и шумели. Папа постепенно пьянел.
Когда Папа пьянел, то становился очень веселым. Но это длилось не более часа, затем веселье оборачивалось слезами. Сейчас он переживал пик веселья. Он запел шутливо-деланным голосом, каким всегда пел, когда подражал сладеньким баритонам, поющим в балладном стиле. Обычно по ходу пения он сам сочинял слова и они всегда поразительно точно пародировали тексты, столь любимые такими исполнителями.
Постепенно он становился все менее разборчивым в словах и впадал в вульгарность, отчего сидевшие рядом с ним буквально покатывались со смеху. Он и сам всегда смеялся, что было по-своему трогательно и усиливало комический эффект.
Сейчас он сидел в конце стола, откинувшись на спинку стула, и, одной рукой обнимая за плечи какую-то женщину — Найэл не имел ни малейшего представления, кого именно, — пел, сотрясаясь от смеха. В зале не могли не заметить, что происходит за их столом. Ухмыляющиеся официанты остановились, чтобы посмотреть на Папу, сидевшие за соседними столиками подняли глаза и обернулись. Оркестр надрывался пуще прежнего, танцующие продолжали танцевать, но на них уже никто не обращал внимания.
Но вот Папа перестал дурачиться и запел своим настоящим голосом. Запел он «Очи черные», запел по-русски. Начал он очень мягко, очень медленно, звуки лились откуда-то из глубины; кто-то за соседним столиком сказал: «Тихо», оркестр дрогнул и смолк, танцующие остановились. Все посторонние звуки замерли, дирижер поднял руку, дал знак пианисту, и тот осторожно подыграл аккомпанемент, затем, следуя за Папой, заиграл ведущую тему. Папа сидел совершенно неподвижно, его массивная голова была откинута, рука по-прежнему обнимала плечи сидевшей рядом с ним женщины. Из его груди лились тихие, надрывающие сердце звуки — то был его истинный голос, глубокий и нежный, такой глубокий, что ничто в мире не могло с ним сравниться, такой нежный и искренний, что переворачивал душу, сдавливал горло, и всем, кто его слышал, хотелось отвернуться и заплакать.
«Очи черные» запеты певцами всех стран мира, заиграны тысячами танцевальных ансамблей и третьеразрядных оркестров, но когда их пел Папа, у всех было такое чувство, что нет и не было песни равной этой. Что это единственная песня, которая когда-либо была написана.
Когда Папа кончил петь, все плакали. Он тоже плакал. Он действительно был очень пьян. И вот оркестр снова заиграл «Очи черные», но в ускоренном ритме, более удобном для танца. Папа танцевал вместе со всеми, начав с того, что кого-то толкнул с такой силой, что тот едва не упал. Он понятия не имел, кого толкает, но, ничуть не смущаясь, продолжал налетать на тех, кто оказывался рядом, и при этом громко хохотал. Найэл услышал, как кто-то сказал: «Делейни совсем опьянел».
Селия не сводила с Папы глаз. У нее было встревоженное лицо. Найэл знал, что вечер не доставляет ей никакой радости. Марии нигде не было видно. Найэл оглядывался по сторонам, но так и не увидел ее. Он вышел посмотреть, нет ли ее в гостиной отеля, но там ее тоже не оказалось.
Многие из приглашенных на банкет уже разъехались. Мужчина, который не отходил от Марии, исчез. Может быть, он отвез ее домой… Найэл вдруг почувствовал, что тоже не хочет оставаться. Его тошнило от банкета, он вызывал у него отвращение. Все ему до смерти надоело. Кто-нибудь позаботится, чтобы Папа и Селия добрались до дому. Сам он не останется здесь ни на минуту. Банкет может затянуться еще на несколько часов, и Папа будет все больше и больше пьянеть. Найэл взял пальто, вышел из отеля и побрел по улице. Автобусы и метро уже не ходили. Может быть, взять такси? В кармане у него оставалось ровно два шиллинга. Хватит только на полпути. Улицы были безлюдными, белыми от снега, тихими. Было поздно, около двух часов ночи. В начале Бонд-стрит он нашел такси, и, когда водитель спросил адрес, он не назвал дом на Сент-Джонз Вуд, а сказал: