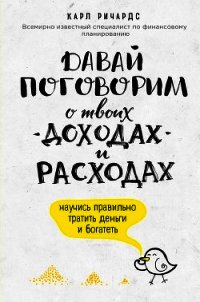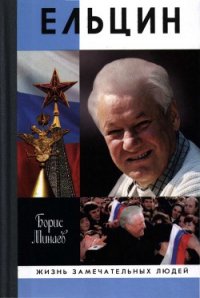Психолог, или ошибка доктора Левина - Минаев Борис Дорианович (книги хорошего качества .txt) 📗
Он, кстати, напомнил во время студенческой практики Б. 3., что когда-то сам был его больным, и тот сделал вид, что помнит, – конечно, помню, коллега, это очень важный опыт, вы ведь были по ту сторону баррикад, – но было заметно, что такой случай у него не первый и что радуется как бы вскользь, слегка формально, Лева зачем-то надулся (внутри себя, конечно), и возможность поговорить, восстановить детали того лета, узнать судьбу тех или иных пациентов была потеряна безвозвратно, и вообще как-то не очень удачно было все в эту практику, отпугнула его клиническая психиатрия, и он твердо решил заниматься только наукой, только психологией, потому что любое практическое ежедневное, будничное дело требует цинизма, то есть полной трезвости, причем сразу, с первых шагов, – а цинизма-то необходимого он в себе и не обнаружил.
В пятнадцатом отделении лежали в основном заики. То есть люди с той или иной степенью логоневроза – по-разному выраженного, с разным сопутствующим букетом, у когото была психастения, или, как потом стало модно говорить, акцентуация характера в эту сторону – болезненной застенчивости, ухода в себя; у кого-то, напротив, это сопровождалось повышенной истероидностью, эмоциональной лабильностью, агрессивностью, склонностью сочинять, врать, фантазировать, а Курдюков, например, или Шамиль вообще ничем таким не выделялись – очень крепкие, мускулистые хлопцы, жуиры и жизнелюбы, за то лето, пока там был Лева, успевшие перепробовать разных баб – и среди пациенток, и среди сестер, но сейчас, задним умом, Лева понимал, что и эти двое, вызывавшие у него тогда, в отделении, глубокую зависть и восхищение своим именно душевным здоровьем – оба просто лучились им, – не были абсолютно здоровы, просто хорошо маскировали свою уязвимость, но полную правду о них могли знать только Б. 3. или Рахиль Иосифовна, никого другого они к себе подпускать бы не стали и за километр.
Лева ненавидел больницы с их особым больничным запахом, противной пищей, тусклым светом в длинных коридорах, стонами «тяжелых» по ночам, с визгливыми интонациями сестер – он это дело знал хорошо, с раннего детства, со своим букетом: гланды, аденоиды, гнойный гайморит, порок сердца, расширение каких-то там вен в самом неприличном месте, которое (расширение) вдруг стало отдаваться особой, ужасной болью, пока его не разрезали под общим наркозом, – в общем, полный букет, и когда мама сказала, что с его тяжелым заиканием надо что-то делать, через год уже пора готовиться к поступлению в вуз (он еще не знал, в какой, и эта тема тоже была болезненной), поэтому она возьмет в больнице справку, чтобы освободить его от экзаменов за восьмилетку, а он ляжет на месяц – он сначала дико засопротивлялся, и тогда мама сказала: «А экзамены ты хочешь сдавать?» – и дело было решено.
Так что в больницу он отправлялся с самым тяжелым сердцем, утешало лишь одно, что от экзаменов откосил (поставили в аттестат по итогам полугодия), а он их действительно жутко боялся – выходить к доске, там комиссия, незнакомые тетки, говорить громко и с выражением – да из него ни звука не вылезет в такой ситуации – но все-таки жара, лето, каникулы, а он будет сидеть в Москве, в больнице, взаперти, но неожиданное ощущение, что это совсем не та, а другая больница – появилось сразу, как только они с мамой, отойдя от метро «Ленинский проспект», перейдя через пыльный мост с трамвайными путями и миновав пару кварталов с пятиэтажками в глубине каких-то там многочисленных Донских проездов, углубились за больничные ворота в аллею.
Сразу, в первые же дни было полно этих диких, освобождающих сознание моментов – но, конечно, лучше всего запомнился один…
Когда буквально на второй день, в субботу (после сеанса), он попал в актовый зал на танцы, дурдом в квадрате (танцы в больнице, ну не бред ли сумасшедшего), он стоял и глупо ухмылялся, глядя на танцующих психов и заик, никаких людей в белых халатах, санитаров, сестер, врачей, не было и в помине, поставили на проигрыватель пластинку, кто-то зычно крикнул: «Бе-елый та-анец!», закружились пары, и к нему подошла высокая девочка с соломенными волосами, почему-то без бровей и без ресниц, отчего ее синий взгляд сквозь глаза-щелочки искрился особенно сильно, и просто сказала: «Пойдем?»
И он вдруг понял, что не сможет отказать, да я не умею, ничего, сейчас будем учиться, клади руку вот сюда, эту сюда, старайся следить за моими ногами, ой, извини, ничего страшного, хотелось одновременно следить и за руками, и за ногами, и за глазами, он пару раз наступил ей на ногу, она засмеялась хрипловато (ах вот что, у нее был хрипловатый голосок, как у Марины), ну, веди меня, как это, ну веди, веди, ты же мужчина, должен вести, вот так, вот так, отлично, делаешь большие успехи, просто очень большие успехи, теперь следующий урок, называется «дистанция», то, как ты меня держишь, называется пионерская дистанция, понял или нет, ты ведь уже комсомолец, и тут он понял, и взял ее крепче, и ощутил ее грудь, и она опять засмеялась, так я не смогу, да и ты тоже, чуть понежнее можешь, помягче, вот, вот, а говоришь не умеешь, все ты умеешь, а как тебя, кстати, зовут, Лева, а меня Нина, ты здесь давно, только второй день, тебе повезло, а я уже целый месяц, а танцы всего второй раз, и пошел разговор…
И пошел разговор.
Притушили свет в актовом зале (не до конца, конечно), они сели на подоконник, кругом было полно таких же парочек, это его и волновало, и успокаивало одновременно.
– Ты заикаешься? – просто спросила она.
Он кивнул.
– Сильно? Я что-то ничего не заметила.
– Вообще-то да… Иногда очень сильно. Не умею, например, говорить по телефону. Вообще.
– Ну, это все нестрашно, – спокойно сказала она. – Тут таких полно. И говорят, потом все проходит. Сеанс тебе очень поможет. Ты его видел?
– Да, видел… Ну, не знаю. Похоже на какие-то фокусы. Как в цирке.
– Это не фокусы! – со значением и даже сердито сказала она. – Это очень серьезно. Очень. Ты должен как следует подготовиться, это самое серьезное, что тебя здесь ждет. Ты это понимаешь?
– Наверное, – задумчиво ответил Лева. – Но еще не совсем. А ты?
– Что я?
– А ты… почему здесь?
Она помолчала.
– А ты сам ничего не заметил?
– Нет.
– Врешь. Все ты заметил. Просто не хочешь говорить…
– О чем?
– А ты настырный… – спокойно сказала она. – Видишь, вот здесь. И вот здесь… Почти нет бровей и ресниц.
– И что это значит? – оторопел он.
– Выщипываю. Сама. Это такое заболевание у меня. Понял?
Он помолчал, не зная, что говорить. А потом почувствовал, что говорить обязательно надо.
– Это же больно, наверное…
– Да нет, наоборот приятно, – спокойно сказала она, глядя вдаль. – Ты знаешь, я ведь даже не замечаю, как это все происходит. Просто сижу, думаю о чем-то… Я без этого, наверное, уже не смогу. Никогда. Ну что, страшно стало?
– Знаешь, – сказал он, глядя ей в глаза, – я правда совершенно ничего не заметил. Может, тебе просто так больше идет?
Она засмеялась.
– Ну да, конечно. Очень идет. Не говори со мной больше про это… Хорошо?
Танцы кончились, он пошел к себе в палату (направо от лестничной площадки), она – к себе (налево).
В палате было тихо, после сеанса многие выписались, он лежал в темноте с открытыми глазами и не мог заснуть несмотря на таблетки. Он попал в больницу для психов, где впервые (!) танцевал с девушкой. Да еще с какой девушкой! Леву потрясла ее откровенность, то, как спокойно и с достоинством она рассказала ему о самом главном, о том, что составляло, видимо, проблему всей ее жизни – мучительную, страшную, непостижимую для него.
Ее насмешливый голос, ее взгляд, с этими синими огоньками внутри узких, странно-розовых, от боли при выщипывании, наверное, щелочек, ее короткий хриплый смешок, то, как она заставила его танцевать, как смело приблизила к себе его лицо, как коснулась его своей грудью, эта музыка – песня группы «Цветы» («С целым миром спорить я готов, я готов поклясться головою, в том, что есть глаза у всех цветов, и они глядят на нас с тобою»), и все это на второй день…