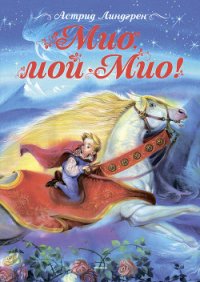Земля воды - Свифт Грэм (книги без регистрации бесплатно полностью TXT) 📗
Переступив через собственную гордость – смирившись с мыслью, что дочери не суждено достичь высот в мире, который, кажется, по самой своей природе наклонен опускаться все ниже, – и нарушив зарок никогда не говорить с этим человеком, он наносит визит соседу, Хенри Крику.
Хотя Харольд Меткаф вдовец, такой же, как и Хенри Крик, и привык к уединенному образу жизни, его до глубины души поражает запущенный и неприкаянный вид смотрителя, который живет теперь один-одинешенек в доме у шлюза и которого он застает, быть может, за починкой вершей или за тихой беседой с курами.
Хенри Крик встречает его долгим взглядом, удивленным и опасливым. Они начинают ходить вокруг да около. Один жалуется на упадок речного транспорта, другой на беззакония, творимые Военным сельхозкомитетом. Ни тот ни другой не хочет первым поднимать больную тему. Наконец фермер Меткаф спрашивает Хенри Крика, не слыхал ли тот чего от сына, который теперь квартирует в Кельне, – и тем создает прецедент.
На лимских берегах, быстро найдя общий язык, но изрядно помаявшись, пока не проходит взаимное чувство неудобства, двое мужчин заикаются, вздыхают, рассудительно кивают (Хенри Крик потирает колено) и соглашаются: что было, быльем поросло, дальше так продолжаться не может, и что время, в конце концов, оно великий лекарь всех печалей. Короче говоря, фермер Меткаф предлагает, чтобы Хенри Крик написал сыну письмо и намекнул, что неплохо бы тому прислать другое письмо, ну да он понимает какое, Меткафам на ферму. И Хенри Крик, хоть он и не мастер писать письма, да и в дипломатии не слишком силен, на это согласен; потому что (взять хотя бы его собственный в этом отношении опыт) он уверен: браками заведует Судьба, а Судьба – она великая сила; и если где Судьба подставит плечо, сладить можно даже с самой неподъемной работой.
Хотя зря он так мучается над этим судьбоносным письмом. Потому что его сын, почти успевший оттрубить свое в Армии его величества на Рейне и углядевший свет в конце тоннеля, уже принял решение – как раз когда отцы наводили мосты – излить на бумагу чернила и прервать затянувшееся в охранительных целях молчание. Он и в самом деле пишет письмо, из тех писем, где Судьба стоит за каждым словом. Однако он тоже предпочитает говорить обиняками. Он описывает, неуверенно и многословно, выпотрошенные города, беженцев, полевые кухни, массовые захоронения, очереди за хлебом. Он пытается объяснить, как все эти вещи дали ему некое новое видение, новую перспективу, и события, происшедшие на реке Лим, кажутся ему теперь, быть может… Но он ни слова не говорит о том, как в силу тех же самых причин его желание постичь тайны истории стало глубже и, более того, усилилась вера в образование. Он дает понять, что тоже прошел свою епитимью, хотя и не осмеливается намекнуть, что здесь они, наверное, тоже квиты и что двух лет, проведенных в казармах и соответствующих месту и времени медитаций на развалинах Европы – не хватит ли этого для отпущения грехов? Он не говорит о планах на будущее, он только спрашивает, не могут ли они, ввиду предстоящих ему демобилизации и возвращения в Англию, хотя бы встретиться.
И словно в доказательство того, что Судьба приложила здесь руку, он, едва успев отправить письмо, буквально через пару дней получает другое, рожденное в муках и корчах, – отцовское. Так что фермер Меткаф немало подивился, вынув из почтового ящика адресованное дочери письмо со штемпелем города Кельна, той скорости, с которой Хенри Крик осуществил порученную миссию, и как это у него убедительно вышло. В результате (ведь некому было вывести обоих из заблуждения) он склоняется к тому, чтобы переменить привычное мнение об этом несчастном смотрителе, на которого он всегда смотрел как на доверчивого дурня (мозги-то ему, чай, подправили во Фландрии) – чего стоит одна эта его нелепая женитьба.
Вот так оно все и вышло, и в февральский день 1947 года будущая жена учителя истории ждет своего суженого в Гидлси, на вокзале. Вот так и вышло, что уволенный в запас военнослужащий Крик (уже преисполненный решимости стать учителем) едет домой в обличье Принца, который готов развести руками шиповник и паутину и поцелуем вызволить Принцессу из одолевшего ее на три года забытья – какова ни будь природа этого явления. Он готовится встретить на вокзале – и принять – монашенку, Магдалину, фанатичку, истеричку, неизлечимо больную… Но, едва соскочив со ступеньки вагона, он видит женщину (никак не девочку), которая уверенно и твердо стоит на ногах, как если бы она решила провести всю оставшуюся жизнь безо всяких там подпорок и попыток к бегству. И он понимает: пусть даже трехгодичная разлука взрастила в нем иллюзию, что, если они встретятся снова, он должен будет стать опорой для нее (обманчивое ощущение взрослости, заскорузлая корочка армейских будней, знакомство с большим – и разоренным – миром), все будет с точностью до наоборот; она всегда будет, как и в те дни, когда она утратила исследовательский пыл, сильнее, чем он.
Холод стоит собачий. Слежавшийся под коркой наста снег застилает Фены, и, хотя в февральский этот день солнце светит вовсю, морозец хватает за щеки. В привокзальной чайной «Белая роза» происходит сцена, которая у постороннего наблюдателя – но не у протагонистов – могла бы вызвать в памяти привычные кинематографические сцены встреч (луноликий владелец заведения замечает, что чай на столике стынет нетронутый, и подмигивает в камеру): будущая жена учителя истории и будущий учитель истории вместе обдумывают житье. Ясно, что узы, связавшие их между собой, куда прочней и жестче, чем у подавляющего большинства влюбленных парочек, бегом бегущих под венец; ясно также, что, если они не предназначены друг для друга, для кого тогда каждый из них по отдельности предназначен? Ясно, что, пусть даже в силу определенных обстоятельств… что, пусть они не в состоянии просто вычеркнуть и забыть…
Он, несший, заикаясь, что-то несусветное, останавливается на полуслове. Они смотрят друг другу в глаза. У нее глаза все те же, дымчато-голубые: она по-прежнему – неужто, забыла? – желанна. У нее на голове (в довершение образа бывшей школьницы и бывшего солдата?) простой черный берет. Он говорит с ней сквозь прядки дыма, он курит «Кемел»; специально припрятал несколько пачек, чтобы легче было найти общий язык с Харольдом Меткафом. Ясно, что, пусть они и не были любовниками вот уже три с половиной года, в душе они таковыми остались.
Они покидают чайную «Белая роза» (чай остался нетронутым), где нельзя было целоваться и держаться за руки. Его дыхание и ее дыхание парят единым облачком. Они пересекают Рыночную улицу, идут вниз по Водной. На Узской набережной они обнимаются. Теплая зимняя одежда приглушает, притупляет непривычное чувство близости. Первый поцелуй. Который не имеет отношения к былому, будто в омут канувшему любопытству и не воскрешает девочки, лежавшей когда-то навзничь в развалинах ветряка. Но и не кажется ему, в то же время, поцелуем женщины, которая все еще взыскует Спасения.
Вот так, у льдистой Узы, пока они шли рука об руку между сугробами счищенного с тротуаров снега (соглядатаи, будь таковые в наличии, могли бы с чистой совестью отвалить восвояси и доложиться Хенри Крику и фермеру Меткафу, что все, мол, в порядке), все и было решено. И там же, на Узской набережной, будущая жена учителя говорит ему две вещи. Сначала (глядя на снежные сугробы); «Половодье будет страшное. А отец не может перегнать скот. Этим идиотам из Дренажного совета за многое придется ответить». А потом (глядя прямо ему в глаза): «Ты ведь, наверное, знаешь, что детей у нас быть не может – вот разве только чудом?»
Давным-давно жила-была будущая жена учителя истории, которая носила школьную форму ржаво-красного цвета, а свои темно-каштановые волосы стригла согласно школьному уставу под прямую челку и надевала сверху школьный же берет или соломенную шляпку; и которая при этом – ничего или почти ничего на себя не надевши – побуждала будущего учителя истории исследовать лабиринты ее едва народившейся женственности, благоговеть перед тайнами ее менструального цикла – и требовала от него в ответ такой же открытости. Которая так любила прояснять неясности, раскрывать тайны, а потом утратила всякую любознательность. Чья жизнь дошла до некой мертвой точки, когда ей было всего-то шестнадцать, но ей пришлось жить и жить дальше.