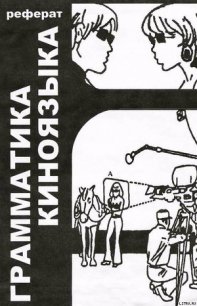Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля - Аржак Николай (библиотека книг бесплатно без регистрации TXT) 📗
Я сидел и рассеянно обводил глазами публику. Какая все-таки у большинства женщин некрасивая походка! Работают много, что ли? Вот цыганки – те все, как одна, идут – плывут, только юбки вьются…
Это Мишка Лурье поет под гитару – здорово поет. Жаль, что я так не могу. И какой это идиот выдумал, что гитара – мещанство?
Лениво и равнодушно оглядывал я лица, разноцветные и одинаковые, как булыжники мостовой, и вдруг задержался взглядом на одном из них. Что-то остановило меня – и даже не то, что человек смотрел на меня в упор, а какая-то напряженная, болезненная гримаса. Лицо было чем-то знакомо – узкими, широко расставленными глазами, нервной одухотворенностью, нездоровой желтизной кожи. Кто бы это мог быть? Я горжусь своей памятью на лица. Но тут я никак не мог вспомнить. Ясно одно – знакомство давнишнее. Ну что ж, сейчас узнаем. Я встал, отряхнул крошки с пиджака. Встал и человек, смотревший на меня. Улыбаясь ему, я двинулся вперед. Но человек протянул руку женщине, сидевшей рядом, и они оба зашагали по направлению к курительной. У самых дверей он повернул голову и снова пристально, без улыбки, останавливая взглядом, посмотрел мне в глаза, как бы говоря: «Да, да, это не случайность, я специально ухожу, чтоб не разговаривать, не встречаться. Да, мы знакомы, я тебя узнал, но ты ко мне лучше не подходи». Он отвернулся, пропустил в дверях спутницу и вышел.
Я стоял почти посреди фойе, улыбаясь по инерции. Потом пожал плечами и вернулся на свое место. Черт-те что!
Ощущение было такое, как будто меня ни за что, ни про что обругали. Этот человек вел себя так, словно я враг ему. А у меня врагов никогда не было. Я никогда никому не сделал зла. Даже женщины, с которыми я расставался, никогда ни в чем меня не винили, хоть и горевали. А этот человек… Ну, ладно, черт с ним! Может, вообще все померещилось?
Когда сеанс закончился, я снова увидел эту пару в толпе, спускавшейся по лестнице. Женщина – очень красивая, с надменным лицом и длинной, вопреки моде, косой – говорила без улыбки:
– Фильм так плох, что даже хорош. Какая-то прямо первобытная глупость, идиотизм без изъяна, без проблеска – совершенство своего рода… Право, давно я не получала такого удовольствия от кино…
Ее спутник что-то бормотнул невнятно, остановился, закуривая, толпа подтащила меня к ним, мы снова посмотрели друг на друга, и мой, должно быть, недоумевающий, вопросительный взгляд столкнулся с отстраняющим прищуром незнакомца. Или знакомца? А ну его к черту!…
…Электричка отгрохотала. Мы шли, переплетя пальцы, тесно прижавшись. И хотя я видел только нос, кусочек щеки и краешек полуоткрытого рта, она была видна мне вся – длинноногая, стремительная и узкая, словно копье, набирающее высоту.
– Пусти, – сказала она. – Нельзя так. Кругом народ.
– Это тебе мерещится, – ответил я. – Никого нет.
– Как же, никого. А вот этот, толстый, – он мне тоже мерещится?
– Сейчас проверим. Простите, гражданин, вы – фикция?
– Чево? – спросил толстяк.
– Витька, ты с ума сошел!
– Извините, я ошибся, думал – знакомый.
Платформа, пивной ларек, хлебный ларек. Дача, дача, магазин, дача, парикмахерская, дача. Мимо, мимо. Песок под ногами – плотный, утрамбованный, перемешанный со щебнем и шлаком. Как ладно шагают ноги, как легко несут они тела, как близко щеки. Какая смесь силы и нежности, как солнце воткнуло в землю рыжие сосны, как сухо и светло в лесу! Ладони, наполнитесь! Господи, Ты есть, ведь не может счастье быть ниоткуда! Ведь не могут же без чьей-то доброй и умной воли захлестнуть меня эти плечи, колени, груди!
– Не надо, – сказала она.
2.
Утреннее море было, как плохо выстиранная и невыглаженная простыня. Моторная лодка шла на восток, к невставшему еще солнцу. Мотор трещал, пассажиры кричали, какие-то дети хлопали в ладоши, и все это было совершенно беззвучно. Я крикнул, чтобы услышать свой голос. Никто не обернулся, и сам я себя не услыхал. Тогда я стал заглядывать в лица своим попутчикам, но они не замечали ни моих взглядов, ни того, что не слышно голосов. «Куда же мы приплывем, если не слышим друг друга? – подумал я. – Надо жестикулировать. Надо азбуку глухонемых». Я стал приставлять пальцы к носу и подбородку, щурить глаза, двигать нижней губой – но меня никто не понимал, хотя я изображал очень простую фразу: «Товарищи, почему ничего не слышно?» Отчаявшись, я махнул рукой и стал смотреть на мягкую и мощную мускулатуру воды за кормой. Лодка неслась все быстрее, люди говорили все горячее и громче – это было видно по артикуляции, волны перестали быть похожими на борцов и превратились в боксеров, краешек солнца показался над горизонтом. «Сейчас мы опрокинемся, – подумал я, – мы опрокинемся, если не услышим друг друга». «Мы опрокинемся!» – крикнул я, преодолевая свою и чужую глухоту. Звонко лопнула пленка в ушах, я услышал свой крик, и все другие – тоже, но было уже поздно: боксер вошел в клинч с лодкой, ударил ее в солнечное сплетение, она согнулась пополам, потом два крюка справа и слева, все рассыпалось, и, уходя под воду, я увидел накатившийся на волны багровый шар солнца…
Какое счастье просыпаться после страшного сна, после смерти и гибели! Медленное воскрешение из мертвых, тающий туман небытия, жизнь, снова прихлынувшая к телу. Только что, секунду назад, ты чувствовал, как превращаешься в ничто, и тебя охватила последняя, самая страшная мука – ужас умирания неготового к смерти, ты знал, что умер, – и вот ты спасен. Мы оставляем себе счастье пробуждения и торопимся забыть о смертной тоске, о том, что нас предупреждают…
Я взял папиросу, глянул на часы. Ого, уже восемь вечера. Сегодня на работе я весь день задремывал, а когда пришел домой, прилег на минутку – и два часа проспал. Еще бы, ведь вернулся-то на рассвете.
Я вскочил с дивана, включил электробритву. Я бреюсь по вечерам. Ведь заранее никогда не угадаешь, как обернутся дела. Случилось же как-то, что я пошел небритым в одну компанию, а там была одна такая Тонечка, и я ее провожал, и зашел к ней, и остался у нее, и все время чувствовал, что небрит, и это здорово мне мешало. Тонечка, правда, говорила, что в мужской небритости есть, мол, даже какая-то привлекательность, но мне все равно было неловко. Да и не все женщины по-тонечкиному рассуждают…
Мы встретились с Мишкой Лурье у метро «Дворец Советов». Было время свиданий, и парочки, как всегда, бродяжили у дощатого забора, окружающего котлован. Интересно, выстроят здесь что-нибудь или эти ямы так и останутся памятником взорванному Храму Христа-Спасителя? Сколько же лет торчат тут доски, заклеенные афишами.
– Мишка, когда взорвали церковь?
– Какую церковь?
Мишка рассказывал последние сплетни о кинофестивале – и о том, как, к великому смущению и конфузу, первую премию присудили Феллини. «Восемь с половиной»! – бубнил он. – Переполох, скандал! Никто ничего не понимает». Сейчас он был очень недоволен, что я его перебил.
– Ну, в 34-м году взорвали. Ты слушай, что было дальше…
Двадцать девять лет назад взорвали храм. Вопреки поговорке, свято место пусто. Конечно, спору нет, пользы от церквей – кот наплакал, они – архитектурные памятники, не больше, но все-таки… Взорвали Бога, а взрывной волной ранило, контузило человека. Глухота, немота… Гной течет из-под бинтиков, из-под статеек о гуманизме. Правда, врачи говорят: «Гной течет – рана очищается». Что ж, посмотрим. Впрочем, мне-то зачем забивать голову всем этим? Что мне – больше всех надо? Я чист перед людьми. Есть работа – не очень хорошая, но и не мерзкая, есть жилье, здоровье, деньги… Да, вот с деньгами худо. Как ни крутись, а в зарплату не уложишься. Особенно последние года два…