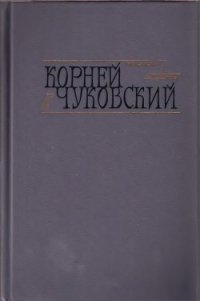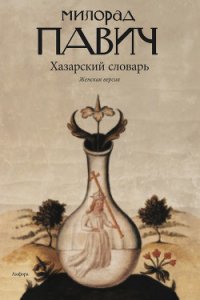Небесные всадники - Туглас Фридеберт Юрьевич (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .txt, .fb2) 📗
Солнце уже стояло высоко в небе. Картофельное поле дышало сладкой сыростью, которая сливалась с ароматами цветов. Люди и животные вдыхали ее, словно пьянящий сок из гроздей винограда.
Хозяйка смотрела на батрака, и взгляд ее теплел.
— Конрад… — прошептала она.
— Чего?
— Ничего… Взгляни, — и она указала рукой поверх осинника туда, где на выступе высокой горки, выше леса, на фоне поднебесья, стояли Аллан и Ирис. Аллан обнял девушку. Ветер развевал ее зеленую накидку и, казалось, это полощется знамя.
— Смотри, как они стоят, — произнесла хозяйка умильным голосом, теперь взгляд ее соскользнул с молодых, стоявших на горке, на батрака. — Стоят, как ангелочки, на краю неба!
Она засмеялась, сначала тихонько, потом все громче и громче, пока грудь ее не заполонил захлебывающийся смех, лицо пошло красными пятнами. Она вся зашлась этим грудным смехом, сотрясавшим ее приземистую фигуру. Крошечные, водянистые глазки переполняла жгучая нежность, жаркое желание.
А молодые застыли посреди необъятного сияния, в потоке лучей, который бежал золотыми нитями, от края и до края неба, сверху вниз и снизу вверх.
Тоненький стебелек собачьей петрушки дрожал в зубах задумавшейся лошади. Лошадь тяжело вздохнула.
Батрацкая жена Ева склонилась над корзиной с картошкой. Красный отсвет плиты дрожал на ее лице. Грязная картофелина вертелась в ее бурых пальцах.
Ирис сидела на пороге кухни, сложив руки на коленях.
— Ох, барышня, да разве по своему хотению детей рожаешь! — вздохнула Ева. — Одному только богу ведомо, какая радость бедному человеку эти дети, когда их и так мал мала меньше. И каждый есть просит. А что ему дать?! И каждого растить надо. А как управиться?!
Она задумалась, глубокие морщины пролегли на пожелтелом лице, белесые льняные пряди выбились на лоб.
— Или вот женская доля… — заговорила она вполголоса. — Смолоду, как замуж идешь, еще думаешь, надеешься, веришь… Ждешь, что тебе выпадет большое счастье. И вот живешь день за днем, год за годом, становишься старше, стареешь, а счастья так и не видать. Боль одна да усталость…
Снова она горестно вздохнула и, словно отгоняя тяжелые, чужие мысли, бесстрастным голосом произнесла:
— Видно, господь знает, что делает. Не зря же он мужчину создал мужчиной, а женщину — женщиной. В муках будешь рожать детей своих, сказано в писании. Так люди прежде жили, так и дальше жить будут.
— Но зачем женщина должна страдать, зачем? — задумчиво произнесла Ирис.
Ева взглянула на нее удивленно. Длинная, тоненькая картофельная кожурка свисала с ее ножа.
— Зачем?
— Зачем ей непременно надо выходить замуж, зачем жить по воле мужа, рожать? Почему ей не жить свободно, как мужчина, рожать и страдать, когда она сама того пожелает! Для чего же еще жить человеку, как не для своего счастья?
Ева глядела на нее исподлобья, оторопелым взглядом. Она недоуменно помолчала, а потом ответила с холодной укоризной:
— Да, барышня, по молодости и мы о том же говаривали, но мы, народ неразумный, живем, как родители наши жили — по чести и бога почитаем.
Картофелина вновь завертелась у нее в руках. Красный отсвет огня скользил по худому лицу, жилистой шее и скрюченным, натруженным пальцам.
Ирис растерянно умолкла. Она тяжело дышала. Она поймала презрительный взгляд Евы, которым та окинула ее ладную фигуру. Она неловко сдвинула колени и горестно сгорбилась. Взгляд ее скользил по склоненной фигуре Евы.
Вон сидит она — пятьдесят лет тягот, страданий и покорности, вся — воплощенное чувство долга и самоотречения, сухая, серая и безответная, как земля у нас под ногами. Тело, которое могло стать источником жизни тысяч будущих поколений, выглядело тощим и непривлекательным. Она недалеко ушла от обезьяны, которая еще совсем недавно обитала на дереве: низкий лоб нависает над водянистыми глазками, широкие скулы и крепкие зубы, низкая, узкая грудь и большой, тяжелый живот. Извечная женщина, праматерь, дикая и страдающая, как повелось от сотворения мира.
Ирис оглядела себя. Изящная и легкая, она лучилась здоровьем, жизненной силой. Чуть помятый летний костюм был ей свободен. Когда она сидела, прохладные складки юбки дважды обертывались вокруг ног, обнажая стройные ножки в шелковых чулках. Вырез был глубокий, поэтому ничто не стесняло ее грудь, из разлохматившихся волос свисали увядшие цветки.
И в одежде, и в ее самоощущении была сегодня какая-то раскованность и открытость. Она освободилась от истомы и в своей чуткой расслабленности ощущала, как струится по жилам кровь. За последнее время она пополнела, и это ощущение здоровья невзначай проступало во всем ее облике.
И в то же время она испытывала чувство стыда и беспомощности. Она понимала, что при всей своей доброте эта старая женщина все-таки осуждает ее. Так бесконечно далеко они были друг другу! Никогда не понять ее этой матери, давшей жизнь семерым детям. И никакими силами не объяснишь ей, как несправедлива она к Ирис.
Ирис еще ниже опустила голову, коснулась рукой волос, нащупала цветок и стала медленно водить им по воздуху. Прохладный ветерок от двери мягко перебирал короткие волосы на затылке, холодил горячую шею. А за спиной вставала черная летняя ночь. В густом воздухе еле слышно шелестели листочки осин.
Картофелины с плеском попа́дали в котел с водой. Зашипели в огне брызги. Горестная фигура Евы растворилась в дыму за крутящимися языками пламени. И только топотанье ее босых ног доносилось из темноты.
Тем временем из бани прибыло все семейство: сам батрак, двое сыновей и две дочери, все красные, как раки, с сияющими чистотой лицами. Топоча вбежали дети, только ноги замелькали в свете очага. Старшая из девочек подсела к огню, распустила мокрые волосы, похожие на пясть льна, и принялась их сушить. Капля пота блестела на ее вздернутом носике. Старик сидел в другой комнате и черной, как смоль, щеткой расчесывал голову. Ева сновала между кухней и комнатой с дымящимися мисками в костлявых руках.
Простившись, Ирис потихоньку вышла. Посреди двора она приостановилась, оглянулась — жар догоравших головешек подсвечивал дверной косяк — прислушалась к шелесту осиновой листвы. Потом повернула к даче.
А в батрацкой уже ели. Во главе стола сидел старик в чистой рубашке, расстегнутой до пупа, и седые волосы ниспадали на худые плечи. Молча, будто священнодействуя, он нарезал кривым ножом ломтики хлеба и оделял сидевших рядком детей. Их гладкие головки блестели в неверном свете плошки, с круглого фитиля которой вилась к потолку бурая ленточка дыма.
Старики с минуту посидели тихо, сложив руки, бесцельно глядя усталыми глазами в пространство, с суровыми складками вокруг губ. Дети в нетерпении ждали, каждый со своим куском хлеба в руке, и как только родители потянулись к еде, жадно вонзили в хлеб молодые зубы.
За едой разговаривали только отец с матерью, в основном говорила мать, отец только согласно сопел. Стоило заговорить кому-нибудь из детей, отец вскидывался:
— Замолчи! Молоко на губах не обсохло, а туда же, языком молоть!
Встав из-за стола, сразу улеглись спать. Долго еще скрипела детская кровать, в которой они лежали на соломе рядком, дергали друг друга за волосы, впивались ногтями один другому в ухо. Теперь и окрики раздавались устало и сонно. Отец сидел на краю постели, почесывая большим пальцем волосатую грудь, все его грузное тело дышало чистотой и предвкушением предстоящего отдыха. Потом, кряхтя и вздыхая, он улегся, а мать пристроилась рядом.
Вдруг она спохватилась:
— Кухонную-то дверь так и не заперли. Еще собаки залезут. Леэни, поди закрой!
Но Леэни уже спала.
— Кусти, поди ты.
— Я боюсь.
— Чего ты, дрянь такая, боишься?
— Привидения!
— Ох, уж эти твои выкрутасы! Придется самой идти.
Вздыхая и потирая тело жестким подолом рубашки, она тяжело спустилась на пол. Вскоре послышался скрип дверных петель и скрежет задвижки. Мягко ступая босыми ногами по глиняному полу, Ева вернулась в постель. Старик ждал ее.