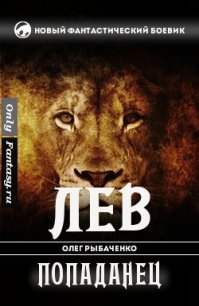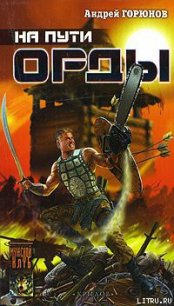Остров - Голованов Василий (хорошие книги бесплатные полностью TXT) 📗
Пришлось вводить ограничительные меры: детские пособия отоваривать продуктами, чтобы отцы-матери не пропивали денег своих детей, а пенсию в исключительных случаях придерживать до некоторого вытрезвления пенсионера или членов его семьи. Легко понять, как быстро на этой почве возгоралось недовольство, тем более, что разросшиеся культурные потребности праздного населения сдерживались режимом островной экономии: в клубе кооператоры завели для молодежи дискотеку с цветомузыкой, а на телевидении появилось множество программ и сериалов, продолжающихся заполночь, в то время как трудящийся механик Николай Одинцов, родной муж новой власти, по старинке продолжал вырубать дизель-генератор ровно в полночь, убеждая односельчан, что горючего едва ли хватит и на двадцать дней. Односельчане плевать хотели на это, открыто проклинали и его, и власть, а в дни особо полюбившихся программ угрожали социальным взрывом, заставляя Николая послаблять режим экономии и продлевать телегоризонты до самых программ со стриптизом.
Работы в совхозе не было, и директор его, как человек хороший и совестливый, подал в отставку и съехал с острова. Две бригады оленеводов, оставшиеся в тундре, перешли на автономное существование, питаясь сырым мясом и рыбой и изредка засылая за водкой и хлебом гонца на нартах в поселок.
Матриархальная власть, торжество которой, несомненно, воплощала собою Александра Александровна, не обладала насущными мерами принуждения, которые могли бы приструнить опившихся мужиков и вернуть жизнь в нормальное русло, несмотря на титанические усилия мужа, который в одиночку управлялся со всей поселковой механикой. Подростки стали добираться до охотничьих балков в тундре и воровать из них, что подвернется: такого на острове не было никогда.
В этот отчаянный момент и появились в Бугрино уполномоченные УВД. Не зная целокупной картины постигшего остров бедствия, вряд ли, конечно, они догадывались о высокой вразумляющей миссии, выпавшей на их долю: в своей прокуренной комнате они просто день напролет выслушивали одного за другим множество очень давно пьяных мужчин, вынужденных притворяться трезвыми и изображать что-то вроде покаяния, вне всякой логики сопровождая покаянные слова запутанным, но очевидным враньем и отрицанием какой бы то ни было своей причастности к нехорошим поступкам других.
За день уполномоченные так выдохлись, что вечером, запершись в двухместном – «люкс» – номере нашей гостиницы, куда по случаю их приезда был принесен телевизор, они раздавили литровую бутылку водки, выкурили еще, наверно, по пачке сигарет и так и не высунувшись ни разу на улицу, завалились спать, дожидаясь утра, когда за ними должен был прийти вертолет.
По счастью, наш с Петром день прошел совершенно иначе. Едва мы покинули здание совета, на время превратившееся в устрашающее прибежище правосудия, и вернулись в гостиницу, чтобы, наконец, распаковаться и приготовить себе обед, как вдруг в окно я случайно увидел человека, который был нам нужнее всего. Не спеша, но деловито направлялся он куда-то и я, чтобы не потерять его из виду, пулей вылетел вслед за ним. Это был Григорий Иванович Ардеев, с которым два года назад я познакомился в тундре, когда ездил на просчет оленей. В поселке среди ненцев должны были бы помнить меня лишь он да Иона, старик Иона, когда-то мальчишкой запечатленный Адой распевающим песни на холме. Ну еще и Алик, конечно, Стрелок, но обстоятельства нашей последней встречи во сне, признаюсь, заставляли меня всячески избегать свидания с ним, хотя, как здравомыслящий человек, я должен был бы понимать, что оно неизбежно.
С Григорием Ивановичем связывала меня одна история, случившаяся в тундре, когда я малость очухался. А это не сразу произошло, а дня через два только, потому что даже по сравнению с тем, что видел я на Печоре, то, куда я попал – это совсем был иной мир, иной век, во всяком случае, иное какое-то время, и вокруг были люди в одеждах этого времени, и у них были лица людей иного времени, глаза… Все другое: у Григория Ивановича на ремне, подпоясывающем малицу, висел тогда нож в деревянных ножнах с окладом из желтой меди – в старину такие продавали ненцам люди коми-народа – и я видел, как своею не по-стариковски крепкой рукой он серую сталь этого ножа погружает в широкую грудь оленя, и рукоятка ножа вздрагивает, как поплавок, в роднике рассеченного сердца…
Два дня я ни с кем почти не разговаривал – а там человек пятнадцать было старых и молодых – загонял оленей вместе со всеми, фотографировал изредка, ел, что дадут, потом опять загонял. И неплохо, верно, справлялся, потому что в конце концов бригадир, Егор Афанасьевич – здоровенный мужик, спокойный, как морж – сказал: «пусть этот фотограф во вторую бригаду не ездит, пусть у нас поработает». Притерся, в общем. Да еще рассмешил народ – очень кстати – когда вместо кипятка солярки себе в кружку налил. В каждом тундровом балке возле печки стоит чайник с солярой, чтоб растапливать легче было, а я ж не знал. Чайник такой же мятый, закопченный, как все другие. Я его взял, налил кипяточку и тут чувствую, смотрят на меня все как-то странно. Понюхал. В общем, разрядил обстановку. А то все что-то мешало нам друг с другом заговорить: они вроде как дичились, а я вроде как побаивался: сон ведь мне про Алика не вдруг привиделся такой, все-таки когда кровью, хоть и оленьей, весь воздух пропитан, в людях нет-нет, а такая проступит дичинка – думай, что хошь. Там и Алик ходил сам не свой, я не сразу и понял, что он Григорию Ивановичу сын родной – отец спокойный, добродушный, рассудительный, про старину любил повспоминать, а Алик вздернутый ходил, молчаливый, курил часто и зло. И еще там был один паренек лет шестнадцати – Лёка – вот его я почему-то побаивался особенно. Ни слова я от него не слышал и в глаза не мог посмотреть: у него черными длинными космами глаза так были завешены, что сквозь них только тусклый блеск мерцал иногда, будто звериный глаз. И все время точил он нож. Молчит, глядит исподлобья и точит нож. И черт его знает, что у него на уме. Иногда мне казалось, что он-то меня и зарежет. Я ведь не понимал еще ничего. А после того, как я чуть не выпил кружку соляры, люди отмякли, поняли, в общем, что москвичи – это тоже люди, можно сказать, нормальные. И, помню, Андрей Апицын – был там помощником бригадира отличный парень, веселый, ловкий, неутомимый, по-настоящему лихо управляющийся с оленями – вдруг меня спросил:
– Ну, как там у вас в Москве с Барабашкой?
Откуда он про Барабашку узнал? Сейчас-то позабылись все эти истории, а тогда сплошной был клинический полтергейст.
После этого я, можно сказать, очухался. И когда утром выглянул из балка, вдруг совершенно отчетливо понял, что меня все эти два дня давило: грязь. Окурки, железные банки, кости, куски шкур, битое стекло… До того мне невмоготу это видеть стало, что я пошел, снял с борта вездехода лопату и стал рыть помойную яму.
Копаю и чувствую, как растет напряжение: сзади люди смотрят на меня. Потом Егор, бригадир, подошел, посмотрел. Потом так же мальчишки. Никто не проронил ни слова. Я не оборачивался, копал молча – и все. Пошел на принцип. Дело в том, что во времена кочевья за чистотой в чуме и вокруг него должны были следить женщины, и я, можно сказать, за женское дело взялся, принявшись за эту яму. Могло статься, что тем самым я себя в глазах бригады роняю, ибо в традиции разделение на женскую и мужскую работу соблюдалось очень строго. Слава Богу, почва легкая была, песок, я пол-куба без передышки вынул, не обернувшись ни разу, и когда закончил, просто ткнул лопату в землю и так же, не оборачиваясь, пошел к речке, разделся и выкупался. Выдержал паузу. Ну, а когда обратно шел, то увидел, как Иона консервную банку подобрал и в яму бросил. За ним мальчишки тоже, и все, кто рядом был, что-нибудь подобрали и в яму бросили. И наш повар, Демьян, стал подметать вокруг костра и у входа в балок. Тогда я понял, что сделал все правильно. Подобрал еще истлевший брезент, банки ржавые, какие-то кишки, собаками размотанные – и тоже все это в яму свалил: она сразу заполнилась, наверно, наполовину.