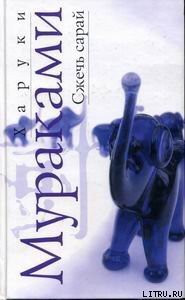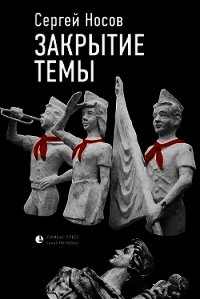Грачи улетели - Носов Сергей Анатольевич (книга регистрации txt) 📗
Но выбор был сделан, и старое погибало. Гибло общество, которое ценило идеи выше вещей; скажем, идеи вещей выше самих вещей – за простым отсутствием этих вещей или, в лучшем случае, дефицитом. Что касается великих идей, объединявших некогда социум, то их умопостигаемость ныне заменялась другой добродетелью – натуральной предъявленностью к потреблению прежде немыслимого числа сортов колбасы, причем ассортимент чего бы то ни было грозил расти и расти, было бы кому покупать. На прилавках, еще недавно пустовавших, образовались товары в основном иностранные, хотя и поддельные в значительной части. Но на это ведь надо и время, и опыт, и денег чуть-чуть, чтобы, рискнув честным заработком, понять, почему “Наполеон” совсем не “Наполеон” (давно ли спиртное шло по талонам?), а нечто разлитое где-то в Польше. Пока россияне пытались осознать себя цивилизованными потребителями, им, усомнившимся в подлинности всего своего, продолжало мерещиться предъявление истинности любым говном в импортной упаковке. Запад между тем являл себя всего нагляднее на российском телеэкране с непривычной для зрителей методичностью – агрессивной рекламой чудо-шампуня. Реклама на ТВ была еще в диковинку и воспринималась меньше всего как призыв пойти и купить; скорее это было послание, мессидж – из инобытия, из райских кущ, из эдема – благая весть о счастливом образе жизни. Иными словами, тогдашний российский рай существенно отличался от западного первообраза – рая, в который попали Чибирев и Щукин.
Если бы не Дядя Тепа, организовавший экспедицию в Германию, они бы так и продолжали ощущать себя самыми обыкновенными смертными. Шутка ли сказать, начало девяносто третьего, а им до сих пор не доводилось объегоривать ближних (или даже не ближних, далеких) физических лиц; юридических – тоже. Они не удосужились (или постеснялись) не свое сделать своим, подобрать по обломку-другому рухнувшего государства (это ли не обломовщина?), а всего-то делов – наклонись, подними и неси в свой закуток, если плохо лежит и тем более под ногами. Оба придерживались правильных убеждений, по-честному верили в либеральные ценности и, как представители передового, революционного класса (интеллигенция), имели некоторые заслуги перед новым демократическим режимом, а потому ощущение аутсайдерства, все чаще посещавшее обоих, и Щукин, и Чибирев находили каким-то досадным синдромом временного недомогания.
Они не были небожителями, но и быт для обоих не был чем-то сверхценным.
А Телегин все спрашивал: “Ну как?” И Телегина интересовалась: “Понравилось ли?” Больше всех знать хотел Дядя Тепа: “Ну? Что почувствовали? Расскажите!”
Каждая деталь между тем домашнего интерьера (осмотр квартиры, двухкомнатной, с широким балконом) подсказывала правильный, однозначный ответ, каждый предмет вопиил о благополучии этого мира.
Они ели брюссельскую капусту – из пакетика – размороженную и подогретую в микроволновке (деликатес?). Был “Горбачев”. Оказалось, что “Горбачев” – не в честь Горбачева М. С., а в честь Горбачева другого. “Видишь, форма какая?” Щукин видел: горлышко бутылки распухало церковной маковкой. А у нас все бутылки были стандартные…
“А у нас”, “А у вас” произносилось чаще всего.
Ночь была. Московского времени не было.
То ли о родине затосковав, то ли наоборот, Щукин вдруг закручинился, молчаливым стал, невеселым. Их “Горбачев” уступал нашей “Столичной”, хотя мнения разделились. Странная веселость овладевала Чибиревым – вот задаст вопрос и, не дожидаясь ответа, совершит как бы акт, сказать можно было бы, подхихикивания, если бы не подъеекивал он: е-е-е-е-е-е… – много е – быстро и через дефис – словно кто-то дергал его за веревочку.
– У вас что же, хлеб нарезанным продается? Е-е-е-е-е-е…
(Целокупной буханкой хлеб продавался в российских булочных. Россия не знала нарезки.)
У Майи на носу были веснушки. Ей нравилось отвечать обстоятельно. Она звонко смеялась. Телегин тоже был бы рад что-нибудь рассказать, но за столом жена слова сказать не давала.
Кто был радостней всех, так Дядя Тепа. Он от радости был вне себя: вне себя он хотел воплотиться в гостей, их глазами смотреть на действительность – на нарезку, на тостер, на консервированные шампиньоны, – здешние знаки материального мира (в России его окружали другие) вновь возбуждали в нем еще не забытый восторг первосвидетельства.
Наибольшая радость его обуяла еще до того, как сели за стол, – когда, сгорая от нетерпения, он достал из щукинского рюкзака первую свертку изделий. Все изделия были распределены по “букетам” (его терминология), десять изделий в “букете”, каждый “букет” перетягивался черной аптечной резинкой. Первая свертка оказалась “букетом” изделий с ручками синего цвета. Дяде Тепе ужасно понравилось, он воскликнул: “Что надо!” Отделив одно изделие от “букета”, ловко вертел его в руке, словно это был инструмент тамбурмажора. Майя хлопала в ладоши.
Говорили о немецком менталитете, когда невеселый Щукин перевел взгляд со стола на “букет”, брошенный на пол. Он словно проснулся:
– И это можно продать?
– Десять марок штука! – радостно объявил Дядя Тепа.
– Не верю.
– Нет, если бы лежало на прилавке, никто бы, конечно, не купил, но ведь я же работаю!
Тут выяснилось невероятное. Ни Щукин, ни Чибирев никогда не видели, как Дядя Тепа работает.
– Да вы что! – изумилась Майя Телегина. – Разве он вам не показывал это в России?.. Как делает это?..
– Ты имеешь в виду, как работает эта штуковина? – Спросил Чибирев. – Вообще-то, мы сами знаем. Шлеп – и готово.
Дядя Тепа захохотал, услышав такое. Майя сказала:
– Я не про эксплуатацию, я про то, как он представляет.
– Что – представляет?
– Товар!
Воззрились на Дядю Тепу: хватит валять дурака, за дело, маэстро!
– Тепа, они не знают! Обязательно покажи. Прямо сейчас!
– Мне столик нужен.
Раздвинули складной столик, поставили посреди комнаты.
– И мух.
Литровая банка с мухами транспортировалась в рюкзаке Чибирева. Извлекли.
Дядя Тепа подошел к столику, справа от себя положил “букет”, взял обеими руками банку.
Банка с мухами напоминала банку с вареньем. С черничным вареньем. Она и закрыта была по-домашнему, как закрывали когда-то варенье, – бумагой, перетянутой опять же аптечной резинкой на горловине. Дядя Тепа умилился. Воспоминание детства. Бабушка Оля. Кладовка. В две шеренги на полке построены банки с вареньем. На бумажных закрышках надписи вроде: “Черника. 1966”. Он открыл банку, поднес к лицу и зачем-то понюхал ее содержимое. Двумя пальцами вынул муху.
– Хорошо бы пинцетом! – подал голос Телегин.
– Тсс! – приструнила Майя супруга.
Дядя Тепа, не отводя от мухи взгляда, шевельнул мизинцем: не отвлекайте!
Положил на стол – ближе к левому краю.
Этих мух продавали на Невском проспекте в магазине “Охота и рыболовство”. Штука – пятак. Черненькие, из пластмассы. Когда были совсем дураками (первый курс, стройотряд и т. п.), считалось прикольным подбросить в компот или посадить на котлету. Вот и Телегину Майю посетило воспоминание: едет в метро, рядом за поручень держится мачо, красавчик – с печатью таинственности на лице, для данных мест (лица и метро) нетипичной, отчего за лицо цепляется взгляд, – их взгляды встречаются – мачо открывает медленно рот и высовывает язык – на языке сидит черная муха. Смешно.
Мухи действительно были словно живые – выпуклоглазые, с тремя (что характерно для всех насекомых) парами ног и даже с прожилками на сложенных крылышках. Щукин однажды пытался на муху ловить карасей, не очень удачно.
Дядя Тепа вынул одно изделие из “букета”. Все мухобойки в этом “букете” были с ручками красного цвета.
Дядя Тепа любовно потрогал бьющую часть мухобойки – прямоугольную шлёпалку жесткой кожи.
Покачал орудие на руке, словно прикидывал вес – в самый ли раз – не много ль, не мало ль?
– Сосредотачивается, – сказал Телегин.
– Тссс! – Майка сказала. Готов.
Дядя Тепа взмахнул мухобойкой и закричал: “Ахтун, ахтун!” Щукин и Чибирев, не владевшие немецким, поняли без перевода.