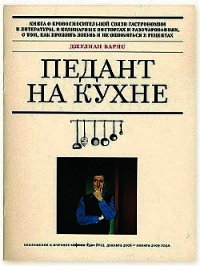Попугай Флобера - Барнс Джулиан Патрик (читать книги без сокращений .TXT) 📗
д) Но тот нужный и искомый им роман нашел Шарль Лапьер, редактор журнала «Руанский хроникер» (Nouvelliste de Rouen). Однажды, ужиная в Круассе, Лапьер рассказал Флоберу скандальную историю о некой мадмуазель де П. Она родилась в семье нормандских аристократов, имевших связи со двором, и стала чтицей императрицы Евгении. Ее красота, рассказывали, могла ввести во грех даже святого. Она же стала причиной ее собственного грехопадения, де П. открыто вступила в связь с офицером императорской гвардии, — все это закончилось ее изгнанием из двора. Вскоре она стала одной из цариц парижского полусвета и правила там до конца 1860-х годов, во всем подражая порядкам того двора, который прогнал ее. Во время франко-прусской войны она куда-то исчезла (со всей своей свитой), и вскоре ее слава закатилась. Она опустилась на самое дно распутства. Однако (это нужно для романа и самой героини) ей удалось снова подняться: она стала содержанкой кавалерийского офицера и умерла законной женой адмирала.
Флобер был в восторге от этой истории. «Знаешь, Лапьер, ты дал мне тему для романа, это прекрасный двойник моей Бовари. Мадам Бовари из высшего общества. Какая интересная фигура!» Он тут же записал рассказ и начал делать заметки. Но роман так и не был написан, а заметки к нему не были найдены.
Все эти ненаписанные книги только дразнят воображение. Однако они могут в какой-то степени быть восполнены, востребованы и вновь предстать в нашем воображении. Их могут изучать в академиях: пирс — это не мост, но если смотреть на него достаточно долго, то станет казаться, что ты уже на другом берегу Пролива. То же может показаться и с корешками этих ненаписанных книг.
А как же быть с непрожитыми жизнями? Это еще более соблазнительно, и это настоящие апокрифы. «Фермопилы» вместо «Бувара и Пекюше»? Что ж, это все же книга. А если Гюстав сам изменил намерения? Довольно легко, в конце концов, не быть писателем. Большинство людей не стало ими, разве им от этого плохо живется. Френолог — карьерный специалист девятнадцатого века, однажды обследовавший Флобера, сказал ему, что он создан быть укротителем диких зверей. Не совсем точно, но вспомним Флобера: «Я привлекаю к себе сумасшедших и зверей».
Это не просто жизнь, которую мы знаем. Это не просто жизнь, которая успешно была скрыта от всех. Это не просто неправда о жизни, в какую-то часть ее мы теперь не можем не поверить. Это та жизнь, которая не была прожита.
«Я должен быть королем или просто свиньей?» — писал Гюстав в своей «Тетради личных заметок». В девятнадцать все видится таким простым. Есть жизнь, и есть нежизнь, жизнь, служащая тщеславию, или жизнь свинская, неудавшаяся. Кто-то пытается предсказать тебе твое будущее, но ты никогда по-настоящему этому не веришь. "Многое, — писал тогда Гюстав, — было мне предсказано: 1) что я научусь танцевать; 2) что я женюсь. Что ж, посмотрим, но я не верю этому».
Он не женился и не научился танцевать. Он так противился танцам, что почти большинство главных героев и его книгах вежливо симпатизируют ему и отказываются танцевать.
Чему же он научился вместо этого? Тому, что жизнь это не выбор между убийствами, чтобы проложить себе дорогу к трону, или же сползанием в свинарник; тому, что есть короли и свинские королевские свиньи; что король может завидовать свинье, и тому, что возможность, живя, не жить, всегда болезненно кончается и приходится мириться с неприятностями живой жизни.
В семнадцать лет он заявил, что хотел бы провести спою жизнь в разрушенном замке на берегу моря.
В восемнадцать он решил, что каким-то капризным метром по ошибке его занесло во Францию: он родился быть императором Кохинхины, выкуривать тридцать шесть трубок в день, иметь шесть тысяч жен и одну тысячу четыреста мальчиков; но из-за метеорологической ошибки он остался человеком, мучимым огромными неудовлетворенными желаниями, отчаянной скукой и приступами зевоты.
В девятнадцать лет он мечтал о том, что по окончании учебы он уедет в Турцию и станет турком, или в Испанию, где будет погонщиком мулов, или же в Египет — погонщиком верблюдов.
В двадцать он все еще мечтал стать погонщиком мулов, но территория Испании сузилась до Андалузии. Другие возможности карьеры включали бродяжничество в Неаполе, хотя потом он остановился на работе кучером дорожных карет на маршруте Ним — Марсель. Разве такое не случается? Легкость, с которой буржуа путешествуют в наши дни, это агония для того, у кого «в душе Босфор».
В свои двадцать четыре года, вскоре после смерти отца и сестры, он думает о том, что будет делать со своей жизнью, если умрет мать; он продаст все и уедет в Рим, Сиракузы или Неаполь.
В те же двадцать четыре, представляясь Луизе Коле, как человек, полный фантазий и капризов, он уверяет ее, что давно и очень серьезно вынашивает мысль стать бандитом в Смирне. Или по крайней мере в один прекрасный день уехать куда-нибудь очень далеко отсюда, так, «чтобы о нем никто никогда более не услышал». Возможно, Луизу только немного позабавила его идея стать бандитом в Оттоманской империи, ибо уже появились другие, больше связанные с родным домом фантазии. Если бы он был свободен, он покинул бы Круассе и переехал к ней в Париж. Он представил себе их совместную жизнь, их брак и нежную любовь и дружбу. Он говорил о ребенке, представлял себе, как в случае смерти Луизы он будет нежен и заботлив с осиротевшим малышом (мы, к сожалению, не знаем, как отнеслась Луиза именно к этому полету фантазии). Однако эксцентричное стремление к отечественным берегам продолжалось недолго. Через месяц все изменилось. «Мне кажется, что если бы я был твоим мужем, мы были бы счастливы друг с другом. Но после этого счастья мы бы возненавидели друг друга. И это нормально». Луиза должна быть благодарна дальновидности Флобера, избавившей ее от такой незавидной жизни.
Но вместо этих планов, все еще двадцатичетырехлетний Гюстав садится вместе с Дю Каном за географическую карту и планирует гигантское путешествие по Азии. Оно рассчитано на шесть лет и обойдется им, по их грубым подсчетам, в три миллиона шестьсот тысяч франков с xвостиком.
В двадцать пять Гюстав решает стать брамином: мистические пляски, длинные волосы и лицо, умащенное спитыми маслами. Он громогласно отказывается от желания быть погонщиком верблюдов, разбойником или турком. «Теперь только брамин и никто больше — это проще». Ну что ж, становись ничем, подстрекает его жизнь. Стать свиньей — нет ничего проще.
В двадцать девять, вдохновленный Гумбольдтом, он хочет уехать в Южную Америку, жить в саваннах и чтобы все о нем забыли.
В тридцать он размышляет — что он и делал всю свою жизнь — о своих прежних перевоплощениях, о своих апокрифах или метапсихических жизнях в более интересные времена Людовика Четырнадцатого, Нерона и Перикла. В одно перевоплощение он твердо верит: когда-то во времена Римской империи он был хозяином бродячей труппы комедиантов, превратился в настоящего мошенника, покупавшего женщин в Сицилии с тем, чтобы превратить их в актрис, беспутный учитель, зазывала и артист. (Чтение Платона напомнило Гюставу ту эпоху и придало историчность его фантазиям.) Стоит, однако, упомянуть и о его происхождении: он любил хвастатьсятем, что в его жилах текла кровь краснокожих индейцев. Что едва ли могло быть, хотя один из его предков в семнадцатом веке эмигрировал в Европу из Канады и стал охотником на бобров.
В тридцать лет его проекты стали ближе к жизни, но один из них тоже доказал полное несоответствие с ней. Он и Буйе представляли себя дряхлыми стариками, пациентами хосписа для безнадежно больных. Подметая улицы, они, по-стариковски шамкая, делились друг с другом воспоминаниями о тех годах, когда им было тридцать и они ходили в Рош-Гуйон. Их миновало старческое слабоумие: Буйе умер в сорок восемь лет, Флобер — в пятьдесят восемь.
В тридцать один год Гюстав замечает Луизе — как бы между прочим, — что если бы у него был сын, он с удовольствием помогал бы ему находить женщин.