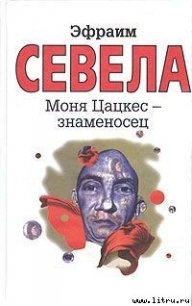Почему нет рая на земле - Севела Эфраим (читаем книги бесплатно txt) 📗
Третьей стояла моя старенькая тетя Рива. Одинокая, бездетная, никогда не выходившая замуж и отдавшая свое сердце многочисленным племянникам, в том числе и мне, которых она нянчила защищала от родительского гнева и которые, когда вырастали, все до единого забывали о ней.
Вот она-то меня и узнала.
Заслонив рукой глаза от солнца, она долго вглядывалась в меня и спокойно, так, будто это у нее не вызвало никакого удивления, громко сказала:
— Кажется, это…
И она назвала меня тем самым уменьшительно-ласкательным именем, каким меня называли, когда я был очень маленьким.
Я чуть не крикнул:
— Да! Это — я!
Но ничего не сказал. Не мог выговорить ни слова.
Тогда моя мама подняла глаза от корыта, прищурясь, посмотрела на меня, высокого, худого, в выгоревшей на солнце пилотке и запыленных сапогах, разогнулась и пошла, как неживая, ко мне, как-то странно переставляя ноги и стирая ладонями мыльную пену с голых до локтей рук. До меня ей было шагов двадцать пять. Она переставляла ноги, и лицо ее не выражало ничего, как маска, и она продолжала ладонями стирать с локтей пену, хотя пены на руках уже не было.
Я не трогался с места. Еще раз повторяю, я весьма далек от сантиментов, и потом, люди, выросшие на Инвалидной улице, не привыкли к открытому проявлению чувства. Детство мое в войну было несладким и сделало меня волчонком, готовым в любой миг оскалить зубы, а плакал я последний раз задолго до войны.
Я стоял, как пригвожденный, и не сделал ни одного шага навстречу маме. А она все шла, с каждым шагом лучше узнавая меня, и, когда была уже совсем близко, раскинула руки, чтоб обнять меня. И тут я совершил такой поступок, за который любой нормальный человек назвал бы меня негодяем, подкидышем, выкрестом, скотом и был бы абсолютно прав. Но мама, моя мама, которая родилась и выросла на Инвалидной улице, все поняла и даже не обиделась.
Я не позволил маме обнять меня. Это было бы слишком. Ведь я плакать не умел, а вы можете сами представить, какие чувства бурлили в моей душе, и я бы мог взорваться, как бомба. Я крикнул армейскую команду:
— Отставить!
И руки матери упали вниз.
Потом я протянул ей свою руку и сказал просто, как будто вчера вышел из дому:
— Здравствуй, мама.
Она ничего не ответила и молча пошла рядом со мной к дому и ни одной слезинки не проронила.
— У людей так не бывает, — скажете вы. И я вам отвечу:
— Да. Это бывает только на Инвалидной улице. Ведь у нас все не как у людей.
Ну, кто, скажите вы мне, может похвастать таким?
Потерять сына, видеть его смерть и через четыре года найти его живым и здоровым. И дом сразу получает хозяина. И этот хозяин ходит по двору голый по пояс, в брюках-галифе и, как взрослый, чинит забор, колет дрова, и женщины в доме чувствуют себя в полной безопасности за его широкой спиной.
Когда все волнения улеглись, мама мне созналась, что в разгар войны в далекой сибирской деревне ей гадала на камушках одна старушка и сказала маме, что у нее пропали двое мужчин и, как Бог свят, они оба живы. Насчет одного сибирская старушка действительно угадала — я вернулся живым. А что касается отца, тут уж она дала маху. Похоронное извещение у мамы на руках, и потом, государство зря не будет платить пенсию. Спасибо уж за то, что угадала наполовину. Обычно гадалки просто врут. Но эта сибирская старушка, дай ей Бог долгие годы, как в воду глядела.
Через три недели после моего воскрешения открывается наша калитка, и входит мой отец. В такой же солдатской форме, как и я, и с таким же вещевым мешком на плече.
И он был удивлен, точно так же, как и я, застав всю семью во дворе. Вы будете смеяться, но он, как и я, приехал продавать дом. Дом, построенный делом Шаей. Дом, полагал он, еще может сохраниться после такой войны, но еврейская семья — ни за что.
Что тут долго рассказывать. Моя мама не сошла с ума. И кажется, даже не удивилась.
— У нас все не так, как у людей, — сказала она. Мой отец был в немецком плену. Как он выжил?
Спросите об этом у него.
— Понимаешь, сынок, — объяснил он мне и хитро при этом улыбнулся. — Попал я в плен, к счастью, не со своими солдатами. Они бы меня выдали за пачку махорки.
Когда мой батальон разбили и рассеяли по лесу, я сорвал с себя командирские знаки различия, зарыл в землю партийный билет и в одиночку стал пробиваться к своим. Не вышло. Схватили.
И вот стою я, понимаешь, в колонне военнопленных в городе Кременчуге, на площади. Немцы нас построили и через переводчика объявляют:
— Кто еврей — три шага вперед!
Много народу вышло из строя, их отвели в сторонку.
Я — стою. Снова объявляют:
— Кто коммунист — три шага вперед! Их тоже в сторонку, к евреям.
Я — стою.
— Старший командный состав — три шага вперед! И этих туда же, к коммунистам и евреям.
Я — стою, будто меня не касается.
Потом всех, кто вышел, тут же на площади и расстреляли. Из пулемета.
А я, как видишь, жив и с тобой вот болтаю. Почему? Мне сынок, надо было сделать не три шага, а целых девять. А как ты знаешь, я большой лентяй.
Мой отец такой! Как скажет — так скажет! Только держись!
Когда его освободили из плена, никто его не похвалил за находчивость. В России так не принято. Даже наоборот. Сталин считал, что плен — это позор и этот позор надо смыть кровью. Или быть убитым или хотя бы раненым. И тогда Родина простит.
Чтобы человеку было легче быть убитым или раненым, всех пленных, кто выжил у немцев, собрали в штрафные батальоны и без оружия погнали в атаку впереди наступающих войск, чтобы они огонь приняли на себя.
— Приятная перспектива, — скажете вы. На что я вам отвечу:
Не дай вам Бог, будучи русским солдатом, попасть в плен и потом еще остаться живым. Номер не пройдет. В штрафном батальоне доделают то, что в плену не смогли.
— Как же выжил ваш отец? — напрашивается естественный вопрос.
Лучше послушайте, как он мне самому на это ответил:
— Понимаешь, сынок. Везение. Наш штрафной батальон должен был пойти на прорыв ясско-кишиневской группировки в Бессарабии, и перед атакой нас посадили в воду на реке Прут, чтобы по сигналу форсировать ее. Но наступление отложили, и мы сидели в воде и неделями ждали сигнала. Было очень жарко, и все штрафники схватили дизентерию, что означает — кровавый понос. Так как была опасность заразить всю армию, нас увезли в госпиталь. И из нас еще долго хлестала кровь, правда, не из ран, а из известного места. Чтобы смыть позор, нужна была кровь. Нашу кровь они получили. Значит, позор смыт. Как говорится, каков позор, такова и кровь.
И он при этом долго смеялся. И я смеялся. И мама. И моя сестра. На Инвалидной улице вообще любят смеяться. Даже там, где другие плачут, у нас смеются. У нас все не так, как у людей.
От Инвалидной улицы не осталось ровным счетом ничего. Даже названия.
На том месте, где прежде стояли деревянные дома, сложенные нашими дедами из толстых, в два обхвата, просмоленных бревен, где, казалось, на века вросли в землю из таких же бревен ворота с коваными железными засовами, где дворы заглушались садами, начиная от научного, по методу Мичурина, сада балагулы Нэяха Марголина до нашего неухоженного, дикого, но зато полного осенью плодов, где вдоль забора росли огромные лопухи, как уши у Берэлэ Маца, и целые заросли укропа, и потому воздух нашей улицы считался, не без основания, целебным, и, дыша от рождения этим воздухом, на улице плодились и вырастали богатырского сложения люди, — на этом самом месте теперь ничего не было.
Были деревья, были тротуары, а домов не было, одни фундаменты из закопченных кирпичей и груды недогоревших обугленных бревен, вокруг которых размножились заросли крапивы и лопухов.
Я долго бродил в одиночестве по пепелищу, оставшемуся на месте дома, где жил Берэлэ Мац, ковыряя носком армейского сапога кучи пепла и ржавых гвоздей, и нашел гриф от маленькой скрипки с концом струны, свернувшейся спиралью. Сомнений быть не могло — я нашел обломок его маленькой скрипки, бережно поднял ее, обтер рукавом моей солдатской гимнастерки и понес домой на вытянутой руке, как хрупкую вещь, которая вот-вот рассыплется.