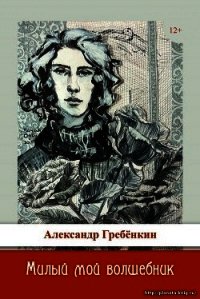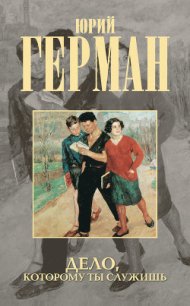Я отвечаю за все - Герман Юрий Павлович (книга регистрации txt) 📗
— Ну вот, — заключил Евгений, передавая отцу кругленький хлебец с солонкой, — а теперь, батя, ты здесь хозяин и главный единоначальник!
Не выпуская теплого плеча Вари из широкой ладони, адмирал правой рукой взял хлеб и пошел прямо в распахнутую дверь столовой, где уже был накрыт стол к первому легкому завтраку. Дед Мефодий сунулся было за ним, но Евгений его добродушно, по-свойски одернул, сказав, что верхнюю одежду надобно снимать при входе и эдакими сапожищами нечего калечить новый паркет. Да и вообще не обязательно ходить всегда с парадного: есть черный ход через кухню, а там рукой подать до комнаты, отведенной в полное распоряжение старика.
— Вот в этом аспекте, дед, и разворачивайся! — посоветовал Евгений и слегка подтолкнул деда к крыльцу. — Привыкай к новой красивой жизни! Что-что, а старикам везде у нас почет!
Дед покорно послушался: его с грохотом вернули с небес на землю, и не без горечи Мефодий подумал, что-де зря заносился дорогой в мягком, роскошном вагоне, чувствуя себя папашей адмирала…
Кухня была новая, богатая, светлая, чем-то напомнившая деду «туалет» в том международном вагоне, в котором они ехали нынче с сыном. Все белое, много кранов и невесть сколько ясного, сверкающего, светлого металла. И тарахтело все так же, как в вагонном туалете, но не по причине движения поезда, а по причине жарки и кипения различных кушаний, которые готовились, видимо, к вечернему приему гостей. Орудовала тут костистая, патлатая, с долгим лицом и быстрыми движениями, незнакомая новая кухарка в белом больничном халате.
— Здравствуйте, — сказал дед искательно, — доброго вам почтения…
— Уголь привез? — спросила женщина. — Наконец собрался…
Дед чуть-чуть обиделся, но, зная жизнь, не подал виду — он отлично понимал, что теперь будет во многом зависеть от благорасположения этой сердитой и быстрой дамы…
— А разве здесь на угле протопление? — осведомился он. — Ничего, угольком мы разживемся, но только я адмиралу нашему батя, мы совместно сейчас московским скорым прибыли…
Кухарка в это мгновение потянула из духовки противень с чем-то запекаемым и, согнав деда со своего пути, стала ругаться, что духовой шкаф «сжигает» сверху и не «берет» низ.
— Идите, идите отсюда, дедушка, — визгливо велела она, — идите, не стойте, как та лошадь…
Дед ухмыльнулся на чужое несчастье (он успел заметить, что мясное кушанье на противне изрядно подгорело) и пошел искать комнату, предназначенную для его проживания. Вначале старый Мефодий ткнулся в санузел, куда едва пролез в своем брезентовом плаще. Там он, не без удовольствия, покрутил краны и крантики, подергал ручку, потрогал колонку, пощупал красную и желтую губки, повздыхал на роскошь и благолепие и, заглянув дорогой исканий в два стенных шкафа, наконец нашел свою комнатку, где опознал собственные вещи — имущество, скопленное им за длинную, полную трудов, тяжелую жизнь: была тут его подушка блином, в сатиновой цветастой, для экономии в стирке, наволочке, его тощий тюфячок, одеяло лоскутное, заправленное, за полной трухлявостью, уже после войны в новую оболочку из коленкора, стояла на столике кисточка-помазок, лежала сточенная в гвоздик, сыном подаренная перед отъездом его в Испанию золингеновская бритва, висела на распялке и одежка — кителя Родиона, суконные, поношенные, брюки его же и кителя бумажные, которые Мефодий именовал «полушерстяными». Была и обувь в большом количестве — все это посылал старику Родион, и все это богатство дед Мефодий почти что не нашивал, потому что был после военных харчей и горького жития под немцами чрезвычайно тощ, вдвое против сына, а тратить деньги на перешивку стыдился, денежные переводы от Родиона приберегал, страстно мечтая вдруг что-либо подарить сыну — удивительное, небывалое и немыслимое, как рассуждал он про себя…
В новой комнате старик посидел на краю узкой койки, поглядел в окно, подумал, как с весны займется огородиком. Ему хотелось есть и пить, главное хотелось чаю, к которому он привык за эти дни в «богатом» вагоне, но идти без приглашения он не смел и все сидел, положив тяжелые ладони на колени, ссутулившись и глядя перед собою на ножки старого венского стула. Мысли у него были вялые, даже не мысли, а так, обрывки — сквозь дремоту. «Может, прилечь?» — спросил он себя, но испугался, что если ляжет, то уснет, а тогда его не станут будить, и он до завтра не напьется чаю…
Здесь, в его закутке, да еще и при его тугоухости, было совсем тихо. «А если они меня потревожить боятся, предполагают, что я с дороги прилег?» — смутно попытался себя утешить дед, но не утешил: было обидно на Варьку и на сына; тех, Женькиных, он в счет не брал, давно понимал, что он им только лишь неприятная обуза, как бы покойнице Алевтине-Валентине, которая хоть и погибла, как рассказывают, смертью героя, но при жизни много крови испортила деду Мефодию.
Из дремоты он попал в сон, повалился боком на койку и заспал обиды, потому что при суровой своей внешности был беззлобен, как малое дитя, а когда надолго заходился в ворчании и ругательствах, то — только по возрасту: восемьдесят три стукнуло ему еще весной.
Обдернув старый морской китель и ополоснувшись в санузле водой, дед сообразил, что уже вечер, и отправился в кухню к долголицей стряпухе в надежде попить чаю. Кухарка была выпивши, опять у нее все ходило ходуном, и от нее дед узнал, что Варя сразу же уехала на свою загородную работу, даже не завтракала, к деду наведывался сам генерал…
— Адмирал, — поправил Мефодий. — Родион Мефодиевич, морского военного советского флоту — адмиралы…
— А для нас, женщин, все едино. Пришел, дверь открыл, а вы заспавшись. Он и не велел будить. Кушать станете?
— Гости-то вечерние собрались? — спросил дед, не сразу отвечая на вопрос.
— Собираются.
— Начальство?
— А кто их знает. Мне-то ни к чему.
— Начальство, — солидно подтвердил дед. — Раз Женька такие харчи завернул жарить-парить — для начальства. Он на себя жмот…
Из-за того, что сын приходил за ним, настроение у старика исправилось. Он сел за кухонный стол, покушал толченой картошки с огурцом и мясной подливой, помакал хлеб в селедочницу, где еще оставался соус из подсолнечного масла с горчицей, и принялся за чаепитие, разговаривая на домашние темы с Павлой Назаровной, которую с ходу стал называть по-свойски — Назаровна. От него она впервые много и подробно узнала про семейство, куда определилась служить с нынешнего дня.
— Самая язвенная сука в нашем коллективе, — говорил дед, постреливая на стряпуху колкими глазками, — ето, конечно, Ираидка. Папаня у ей был еще, ну тот, волею божьего, помре… Сухо дерево завтра пятница, — старик застучал кулаком изнутри столешницы. — Ну тот был сука похлеще дочечки. Кипятку и то людям жалел. Ты, Назаровна, не мельтешись, примечай, чего тебе толкую, тебе им выть — для них служить. Я их наскрозь вижу — кто каков человек. Юрка, как я его прозываю, Егор, — парнишка ничего. Набалованный, спасу нету, у них и дохтур был, так тот его в задницу завсегда за свое вознаграждение поцелуями целовал. Известно: возвели мальчонку на великие верха. Но он ничего, добрый. Иногда закобенится, ему только не потакай. Евгений Родионович — как сказать? Ты не суди, что я тебе говорю. Это, Назаровна, для ориентиру, чтобы ты имела взгляд на суть и корень дела. В солдатах не служила?
— Да вы что? — удивилась Павла.
— А ничего: разве в нынешнюю войну службы для вас не было?
— Так годы же мои…
— Не в годах речь. В преданности родине речь. Плесни чайку, да покрепче. Сахару не сыпь — я прикусничаю от века.
— Вина вам налить? — осведомилась Павла.
— Ни боже мой! — сказал дед. — Мне еще с гостями гулять сегодня. Слушай-ка лучше…
И, хлебая чай, он рассказал с подробностями, что главный человек в семье, конечно, Варвара Родионовна — она и умна, и добра, и весела, и красива.
— С Евгением она вот так! — Дед сдвинул свои корявые кулаки один с другим. — И было это всю жизнь. Евгений — одно, Варя — другое. Оно и понятно…