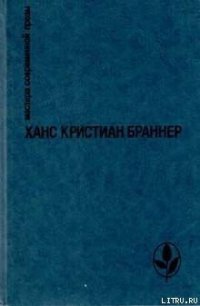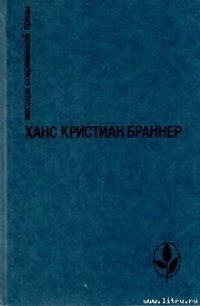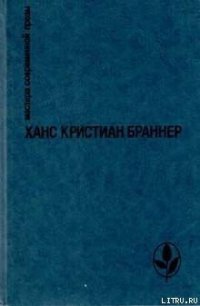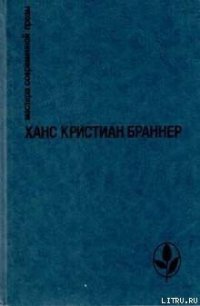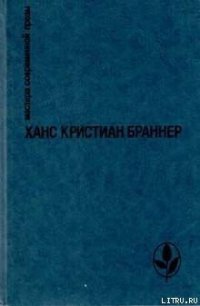Никто не знает ночи - Браннер Ханс Кристиан (читаем книги .txt) 📗
С самого начала он дал себе клятву, что не станет бить Лидию, он не хотел больше служить орудием ее мазохистского самоунижения и самоистязания, которые считал клеймом, оставленным на ней общественной системой, и, когда он вернулся из кухни и увидел, что она стоит нагая и пьет из горлышка, он спокойно подошел, вырвал у нее бутылку и вылил остаток вина в раковину, и даже когда она набросилась на него с кулаками, он лишь схватил ее покрепче за руки и сказал: «Лидия, ну послушай меня, Лидия!», полагая, что должны же они наконец начать разговаривать друг с другом по-человечески. Но он не мог поймать ее взгляд, волосы падали ей на лицо, и сквозь космы виден был лишь ее перекошенный рот, который выпаливал без перерыва: «Христосик! Святоша!», но он твердил себе, что это общество, общественная система вколотила в нее свою ненависть и свое презрение, и не отпускал ее, продолжая прочувственно говорить о том, как необходимо сейчас поддерживать друг друга, думать о своих товарищах, и в конце концов она вроде бы поддалась на уговоры, худенькие веснушчатые плечи зябко съежились и задрожали, словно от рыданий, она стала похожа на затравленную девчонку с чуточной грудью, понуренной головой и смиренно свисающими волосами, но едва он ее отпустил, как она снова сделалась прежней и крикнула: «Ненавижу, я ненавижу тебя, всех вас ненавижу, вам бы только молоть языком, судить да рядить, а другие вот умеют танцевать, мне других подайте, солдатика подайте – и чтоб в сапогах!» – и пошла отплясывать комический солдатский «танец в сапогах», резко притопывая пятками об пол, – тощая, голая, длинноногая. И тут злость захлестнула его, он Ударил ее наотмашь по лицу и увидел, как глаза ее сверкнули безумием из-под пляшущих волос, и услышал ее крик: «Давай, давай! Бей меня, избей до смерти!», и звук ее голоса был как удар током, от которого ненависть и вожделение слились воедино и втянули его в привычную игру, и тут он перестал понимать, сейчас это происходит или это было Десять лет назад или еще раньше, в детстве. Он успел лишь ощутить внутри звенящую пустоту, а дальше сознание его отключилось, и все происходило вне времени, развертывалось перед глазами плавно и тягуче, как в кинокадрах с замедленной съемкой. Вот Лидия, танцуя, пятится к стене, удивительно грациозно, по-кенгуриному подпрыгивая, вот она стукается о стену и поникает, укрытая рыжевато-каштановыми волоса-Ми, плавно раскачивается взад и вперед, как морская трава, колеблемая подводными вихрями, а когда он к ней приближается, она медленно выставляет вперед рыбьей белизны руки, загораживая невидимое лицо. Но он не стал отводить ее руки, он спокойно и уверенно намотал длинные пряди себе на пальцы, и за волосы поднял ее с пола, и встретил кристально ясную злость в ее глазах, и долго, отчужденно выдерживал ее взгляд, пока она медленным движением не вонзила ему в лицо свои острые когти, прочертившие кровавые царапины на его щеках и на шее. И тогда он снова ее ударил, и еще ударил, и еще, так что она отпрянула, танцуя, попятилась назад через всю комнату, танцуя с медлительной грацией, и поникла у противоположной стены. Так продолжалась эта игра в полном согласии с незыблемым ритуалом, и к концу ее Лидия была уже не человек, не женщина – она вся обратилась в слепую и глухую страсть, в жажду отдать себя на растерзание и на смерть, обратилась в бесформенное нечто, ведущее игру на грани жизни и смерти и поникшее у его ног. Он поднял ее и унес во тьму. Но когда он уже лежал с нею, сознание прояснилось: он понял, что она опять добилась своего и что эта игра не кончится, пока не погубит их обоих. Лидия и сама была напугана, он чувствовал это по ее влажным ладоням и судорожно напряженным ногам. Он справился с ее страхом, взял ее спокойно и искусно, но даже в миг кульминации не ошутил ничего, кроме пустоты внутри. Когда все кончилось, она прильнула к нему и плакала, молила, клялась: она его любит, никогда никого не любила и никогда никого не полюбит, кроме него, она вовсе не хотела… пусть он не думает… А он тихо лежал и машинально гладил ее по голове, вперив взгляд в темноту и думая о том, что слишком поздно менять что-либо в их отношениях и теперь скоро все кончится.
Он не слышал, как подъехала машина, но где-то внизу тяжело затопали по лестнице сапоги, потом пронзительно, на весь дом затрезвонил звонок. К этому времени он давно уже был на ногах, успел скатать матрац вместе с одеялом и запихнуть в старый шкаф, и только когда он вылез на крышу и, лежа на животе, пытался прикрыть за собой окно, грохнула взломанная дверь. Значит, сама Лидия, во всяком случае, с ними не пришла. Если их там не очень много, он сумеет воспользоваться преимуществом во времени – у него есть несколько минут, – а их, наверно, четверо, не больше: насколько он расслышал, это была малолитражка.
Он оторвался от оконного карниза и боком храбро двинулся в открытую тьму. Крыша в этом месте оказалась не слишком крутая, по ней можно было передвигаться вдоль выступающего ряда слуховых окон, но мороз за ночь сменился оттепелью, чего он не предусмотрел, резиновые подметки не устояли на скользких шиферных плитках, он покатился на четвереньках вниз, перелетев через острый край, попал на почти отвесный участок, напоролся на козырек над окном мансарды, что несколько умерило скорость падения, и, услышав, как скрипнул под ногами водосточный желоб, понял, что все: это смерть. Но почему-то не рухнул вниз, лежал неподвижно, чувствуя оцепеневшими ногами притяжение черной разверстой пасти двора, а потом, придя понемногу в себя, обнаружил, что прямо над его головой находится окно – за светомаскировочными шторами горел свет и испуганный женский голос звал и звал: «Альфред! Альфред!», а хриплый мужской голос откликался из глубины, но слов было не разобрать. Он едва успел подумать вслух: «Да замолчи ты, чертова баба!», как внезапно налетевший вихрь заглушил голоса, и в следующее мгновение сильный ливень со шквальным ветром обрушился на крышу, точно целое полчище фурий. Всего за несколько секунд одежда промокла и прилипла к спине, занемевшие руки потеряли чувствительность; и странная безысходная усталость навалилась на него. Он проговорился Лидии?… И теперь все равно слишком поздно? Так не проще ли отцепиться и – вниз головой?… «Идиот, – прошептал он зажатыми между рукавами кожанки губами, – если ты ей проговорился, то самое главное – успеть предупредить своих. Лучше уж попасться живым, чем свернуть себе шею по доброй воле!»
Он осторожно приподнялся на локтях и коленях; под резким ветром и слепящим дождем, цепляясь непослушными руками за какие-то непонятные острия и зубцы, стал ощупью карабкаться по крутому ледяному откосу – чудовищно высоко над будничными городскими улицами. Упершись ногами в выступ мансарды, он остановился перевести дух. «Романтика, – процедил он сквозь зубы,– романтическая игра в солдаты и разбойники. К черту романтическую шелуху! Это работа, просто работа, которая должна быть сделана. Проклятая, идиотская работа, такая же, как стрелять в людей. Но она должна быть сделана. Давай дальше!» – скомандовал он.
Наконец он взобрался на гребень крыши и пополз на четвереньках по узкой плоской верхушке. Ветер налетал бешеными шквалами, то и дело приходилось останавливаться и ложиться плашмя, и все же он на удивление быстро и уверенно продвигался вперед, чуть ли не мгновенно очутился у поворота крыши и пошел дальше по боковой части здания, где ветер дул ему в спину и можно было стать во весь рост. Добравшись до фронтона, он стал скользить на животе вниз, пока не наскочил на водосточную трубу, которая спускалась на плоскую кровлю низкого здания мастерских. Оттуда он без особого труда сможет спрыгнуть на землю. Квартал этот он заранее обошел и осмотрел, маршрут был продуман, теперь все зависело от того, выдержит ли его труба. Спустив ноги, он услышал как будто треск ломающегося льда и, скользя на бешеной скорости вниз сквозь тьму, отчаянно воззвал к неведомым высшим силам, моля, чтобы труба не подвела, после чего благополучно приземлился на крыше мастерских и желчно усмехнулся, адресуясь к неведомым силам и собственному страху. Одновременно его ступившие на крышу ноги с дьявольской точностью включили серию пронзительно-резких протяжных звуков – словно стальное лезвие механической пилы вонзилось в него, кромсая длинными зубьями мышцы и нервы. Сирена! – сказал он себе, повис на карнизе и отпустил руки, но тотчас спохватился и сделал немыслимую попытку повернуть прямо на лету, в воздухе – не туда, вот идиот! – и тут асфальтированный двор подпрыгнул и со всего маху врезался ему в подошвы. И он опрокинулся на спину, и снова вскочил на ноги, и заметался вдоль стены дома, как крыса, и перед ним разверзлась вдруг черная яма, и он нырнул в нее головой – а дальше было падение в грохочущую бездну, где тяжелые круглые комья сыпались со всех сторон, ударяя в затылок и в спину, норовя погрести его под собой. «Помогите!» – задушенно крикнул он и низвергся через люк времени прямо в ад: тринадцатилетний мальчишка, запертый в аду, оставленный наедине с гневом божьим на целую ночь. Потом, достав ногами дно и выбравшись из-под комьев, он стоял с пистолетом на изготовку и ждал криков, топота бегущих ног. Но никто не появился. Черная лавина у него над головой успокоилась, лишь местами продолжая нерешительно обваливаться. Холодная испарина покрыла его тело.