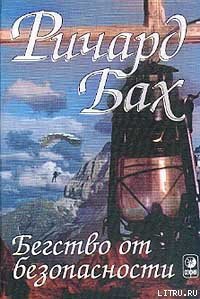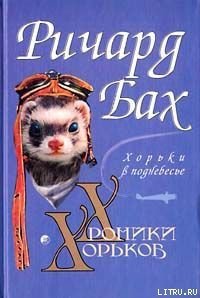Чужой на Земле - Бах Ричард Дэвис (бесплатные серии книг .TXT) 📗
Голос, который я слышу в мягких наушниках, не похож на мой. Это голос человека, занятого только делом; говорит человек, которому еще многое предстоит сделать. Однако это мой большой палец давит на кнопку микрофона, и это мои слова просачиваются через приемник на вышке. «Уэзерсфильд, реактивный самолет ВВС два девять четыре ноль пять вышел на курс, покидаю вашу станцию и частоту».
Мой самолет легко набирает высоту в чужом чистом воздухе над южной Англией, и мои перчатки, не желающие мириться с бездельем, двигаются по кабине и доделывают то, что им было поручено. Стрелки высотомера быстро проходят отметку 500 футов, и пока мои перчатки заняты тем, что убирают отражатели двигателей, подают давление в сбрасывающиеся баки, отстегивают аварийный карабин от вытяжного троса, включают пневматический компрессор, я вдруг замечаю, что нет луны. Я надеялся, что будет луна.
Мои глаза, по команде зрителей за ними, еще раз удостоверяются в том, что на всех маленьких шкалах приборов двигателя стрелки находятся в пределах нарисованных на стеклышках зеленых дуг. Добросовестная правая перчатка переводит регулятор подачи кислорода с положения «100%» на «норм.» и устанавливает в черных окошечках передатчика ультравысокочастотной командной радиостанции четыре белые цифры: частоту направляющего меня радара.
Незнакомый голос, который на самом деле мой, говорит с радиолокационной станцией, направляющей мой полет. Голос способен вести разговор, перчатки способны передвигать рычаг газа и рычаг управления, и самолет плавно набирает в ночи высоту. Впереди, за покатым лобовым стеклом, за сокращающейся стеной чистого воздуха, меня ждет непогода. Я вижу, что она вначале жмется к земле, низко и тонко, словно не уверена в том, что ей дано задание расстелиться именно над сушей.
Три белые стрелки высотомера минуют отметку 10 000 футов, задавая моей правой перчатке задание проделать еще одну, меньшую порцию физического труда в кабине. Сейчас перчатка набирает число 387 в треугольном окошечке на панели управления радиокомпаса. В наушниках — чуть слышные сигналы азбуки Морзе А-В — позывные радиомаяка Абвиль.
Абвиль. Двадцать лет тому назад абвильские ребята, летавшие на самолетах «Мессершмитт-109» с желтой спиралью пружины вокруг пушки на обтекателе винта, были лучшими военными летчиками Люфтваффе. Абвиль — это место, в которое надо было идти, если ищешь драки, и которое надо было обходить, если у тебя вместо пулеметных патронов брезентовые мешки. Абвиль на одной стороне Ла-Манша, Тангмер и Биггин-Хилл — на другой. «Мессершмитт» на одной стороне, «Спитфайр» на другой. А в хрустальном воздухе посредине — переплетение инверсионных следов и падающих шлейфов черного дыма.
Единственное, что разделяет меня и желтоносый «Me-109» — это небольшой поворот реки, зовущейся время. Волны прибоя на песке Кале. Шепот ветра над шахматной доской Европы. Быстрый бег часовой стрелки. И вот тот же воздух, то же море, та же часовая стрелка, та же река времени. Но «мессершмиттов» нет. И величественных «спитфайров». Если бы мой самолет сегодня пронес меня не вдоль реки, а срезал бы по прямой ее поворот, мир показался бы таким же, как и сегодня. И в том же воздухе еще раньше «мессершмиттов» и «спитфайров», в таком же, но в другом объеме старого воздуха, с запада идут и попадают в луч прожектора над Ле-Бурже «лате» и «лонли райан». А там, над притоками реки, все кружат стаи «ньюпоров», «пфальцев», «фоккеров», «сопвизов», «фарманов», «блерио», «райтов», дирижаблей Сантос-Дюмона, монгольфьеров, ястребов. А люди смотрели вверх с земли. На небо, точно такое же, как сегодня.
Сегодня Тангмер и Биггин-Хилл — это слабоосвещенные бетонные прямоугольники под облаком, скользящим под моим самолетом, и аэропорт рядом с Абвилем — в темноте. Но все же тут есть кристально чистый воздух, и он шепчет над фонарем кабины и врывается в зияющее овальное заборное отверстие, от которого до моих сапог лишь расстояние, равное длине пулемета.
Грустно вдруг оказаться живой частью того, что должно принадлежать старой памяти и помутневшим пленкам фотокинопулемета. Я здесь, на дальнем берегу Атлантики, для того, чтобы быть всегда готовым, чтобы создать новые воспоминания о Нашей победе над Ними и нажимать на курок, который прибавит еще несколько футов к отснятой фотокинопулеметом пленке. Я здесь, чтобы стать частью Войны Возможной, и я не могу быть нигде больше, если она сделается Войной Настоящей.
Но вместо того, чтобы узнать, как ненавидеть или хотя бы не жалеть врага, грозящего нам с той стороны мифического железного занавеса, я узнал, вопреки себе, что на самом деле и он может быть человеком, человеческим существом. В течение моих недолгих месяцев в Европе я жил вместе с немецкими летчиками, норвежскими летчиками, с летчиками из Канады и из Англии. Я обнаружил, и это меня даже несколько удивило, что американцы — не единственные люди в мире, которые летают на самолетах просто оттого, что любят на них летать. Я обнаружил, что летчики, из какой бы страны они ни были, говорят на одном языке и понимают те же недосказанные слова. Они сталкиваются с теми же встречными ветрами и теми же штормами. И пока дни проходят без войны, я ловлю себя на том, что задаю себе вопрос: может ли летчик из-за политической системы, в которой он живет, быть совершенно другим человеком, чем летчики, живущие во всех других политических системах всего остального мира?
Этот таинственный человек, этот русский летчик, о чьей жизни и мыслях я так мало знаю, становится в моем сознании человеком, здорово похожим на меня самого, человеком, который летает на вооруженном ракетами, бомбами и пулеметами самолете не потому, что любит разрушение, а потому, что любит свой самолет, и потому, что работа летать на сильном и резвом самолете ни в каких военно-воздушных силах не может быть отделена от работы убивать, когда придется вести войну.
Мне начинает нравиться этот мой вероятный противник, тем более что он человек неизвестный и запретный, чью добродетель никто не засвидетельствует и кого столь многие обвинят во зле.
Если здесь, в Европе, объявят войну, я никогда не узнаю правду о человеке, садящемся в кабину краснозвездного самолета. Если объявят войну, нас спустят друг на друга, как голодных волков, драться. Кто-то из моих друзей, настоящих верных друзей, не воображаемый и не созданный из вероятностей, погибнет от пулемета русского летчика. Где-то под его бомбами погибнет американец. В то мгновение я буду поглощен одним из тысяч зол войны; я потеряю множество невстреченных друзей — русских летчиков. Я буду радоваться их смерти, буду гордиться уничтожением моими ракетами и пулеметами их красивых самолетов. Если я поддамся ненависти, я сам неизбежно стану в меньшей степени человеком. В своей гордости я буду меньше достоин гордиться. Я буду убивать врага и, убивая, буду навлекать смерть на себя. И мне грустно.
Но сегодня война не объявлена. В дни спокойствия даже кажется, что наши народы могут научиться уживаться друг с другом, и в эту ночь восточный летчик из моего воображения, более реальный, чем призрак, в который он должен превратиться во время войны, ведет свой одинокий самолет в свою область неустойчивой погоды.
Мои перчатки снова за работой, они выводят самолет на горизонтальный полет на высоте в 33.000 футов. Рычаг газа под левой перчаткой идет назад, пока тахометр не покажет 94 процента оборотов. Большой палец правой перчатки быстро сдвигает ручку настройки на рычаге управления на две позиции. Взгляд перебегает с прибора на прибор; все в порядке. Подача топлива 2500 фунтов в час. Стрелка показывает 0,8 указателя числа М, а это означает, что моя истинная воздушная скорость устанавливается на 465 узлах. Тонкая светящаяся стрелка радиокомпаса над шкалой со множеством цифр резко разворачивается, когда абвильский радиомаяк проходит под моим самолетом, внизу, за черной тучей. Глаза быстро проверяют частоту передатчика, голос готов доложить о местонахождении службе регулирования воздушного движения, большой палец левой руки на кнопке микрофона, на часах 22.00, а зрители, смотрящие сквозь мои глаза, видят первую слабую вспышку молнии в высоте среди непроглядной тьмы впереди.