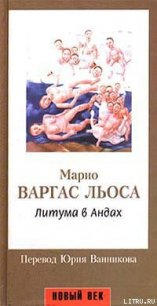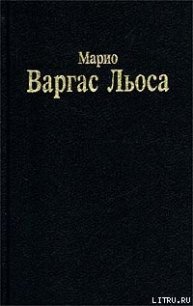Тетушка Хулия и писака - Льоса Марио Варгас (бесплатная регистрация книга txt) 📗
Меня очень удивило, что тетушка Хулия — боливийка и жительница Ла-Паса — ничего не слышала о Педро Камачо. Правда, она пояснила мне, что никогда не слышала ни одной радиопостановки и нога ее ни разу не ступала в театры с той поры, как она исполнила роль Сумерек в «Танце часов» в год окончания колледжа под присмотром ирландских монахинь. («И не вздумай меня спрашивать, когда это было, Марито!»)
Мы шли от дома дяди Лучо, что в конце авениды Армендарис, по направлению к кинотеатру «Барранко». Она сама навязала мне это приглашение в тот же день, причем совершенно беззастенчиво. То был первый четверг после ее приезда, и, хотя перспектива вновь стать жертвой боливийских острот мне совсем не улыбалась, я не собирался пропускать традиционный «четверговый» обед у дяди. Я надеялся, что не встречу ее там, поскольку накануне — по средам вечером все навещали тетушку Габи — я слышал, как тетушка Ортенсия сообщила тоном человека, которому боги доверили свою тайну:
— За первую неделю пребывания в Лиме Хулия уже четырежды бывала в обществе, и все — с разными мужчинами! Один из них даже женат! Они так и липнут к разведенной!
Сразу же после полудня и по окончании передачи бюллетеня «Панамерикана» я пришел к дяде Лучо и застал тетушку Хулию с одним из ее поклонников. Я испытал сладкое чувство мести, войдя в зал и увидев около нее дядю Панкрасио, двоюродного брата моей бабушки, победоносно взиравшего на боливийку: он был на редкость смешон в своем старомодном костюме, с галстуком-бабочкой и гвоздикой в петлице. Дядя Панкрасио вдовствовал уже несколько веков; теперь он ходил, широко расставляя ноги, будто отмечал ими на циферблате десять часов и десять минут, и в семье всегда с неодобрением комментировали его визиты: он никак не мог удержаться, чтоб не щипать служанок у всех на виду. Дядя Панкрасио красил волосы, носил карманные часы с посеребренной цепочкой; его ежедневно можно было встретить в шесть вечера на углу у телеграфа, где он провожал комплиментами девиц, возвращавшихся со службы. Наклоняясь, чтобы поцеловать тетушку Хулию, я шепнул ей на ухо как мог язвительнее: «Блестящая победа!» Она подмигнула мне и утвердительно кивнула головой. Во время обеда дядя Панкрасио, поразглагольствовав о креольской музыке, большим знатоком которой он слыл — на семейных торжествах он исполнял непременное соло, барабаня по пустому ящику, — повернулся к боливийке и, облизываясь, словно кот, произнес: «Кстати, вечерами по четвергам в подвальчике „Виктория“ — в самом сердце креолизма — собирается ансамбль Фелипе Пингло. Тебе не хотелось бы послушать подлинно перуанские мелодии?» Тетушка Хулия, немедленно изобразив на лице крайнее огорчение, отчего ложь ее стала еще более оскорбительной, ответила, указав на меня: «Какая жалость! Но Марито уже пригласил меня в кино». — «Дорогу молодежи!» — склонил голову дядя Панкрасио с самообладанием спортсмена. Несколько позже, когда он уже ушел, я решил было, что спасся от посещения кино, но вдруг тетушка Ольга спросила: «Насчет кино ты, наверно, придумала, чтобы отвязаться от этого старого волокиты?» На что тетушка Хулия со всей горячностью возразила: «Ничего подобного, сестрица! Мне ужасно хочется сходить в кинотеатр „Барранко“, тем более что девушкам смотреть этот фильм не рекомендуется». Затем она повернулась ко мне, внимавшему, как будет решена моя участь в этот вечер, и добавила, чтобы успокоить меня, к своему словесному букету еще один великолепный цветок: «О деньгах не беспокойся, Марито! Я тебя приглашаю».
И вот мы идем с ней вниз по тенистой авениде Армендарис, затем по широким плитам авениды Грау на просмотр кинофильма, который ко всему прочему был мексиканским и назывался «Мать и любовник».
— Самое ужасное не в том, что мужчины считают своим долгом тут же предлагать себя разведенной женщине, — поведала мне тетушка Хулия. — Главное, по их мнению, — в отношениях с разведенной никакой романтики не требуется. Мужчины в таких случаях не прилагают ни малейших усилий, чтобы вызвать ответные чувства, не рассыпаются в изысканных комплиментах, а делают тебе предложение чуть ли не с первого взгляда, и притом без всякого стыда. Но меня не проведешь! Поэтому, вместо того чтобы где-то с кем-то танцевать, я предпочитаю отправиться с тобой в кино.
Я поблагодарил ее за то, что она выбрала меня.
— Мужчины настолько глупы, что считают каждую разведенную женщину уличной шлюхой, — продолжала Хулия, не показав вида, что поняла мой намек. — У всех на уме одно и то же… А ведь самое приятное не это… Самое прекрасное — любовь. Разве не так?
Я пояснил ей, что любви вообще не существует, что любовь выдумали некий итальянец по имени Петрарка и трубадуры из Прованса. И то, что люди принимают за прозрачный источник волнений, взрыв прекрасных чувств, — не более чем инстинкт, такой же, как у котов; инстинкт, лишь прикрываемый возвышенными словами и литературщиной. Я сам не верил в то, что говорил, но мне хотелось выглядеть необыкновенно оригинальным. Моя эротико-биологическая теория вызвала у тетушки Хулии недоумение: неужели я действительно верил в подобный идиотизм?
— Я против брака, — заявил я со всей категоричностью, на которую был способен. — Я — сторонник так называемой свободной любви, и, если бы мы были честными людьми, ее следовало бы просто называть свободным соитием.
— «Соитие» означает ныне «заниматься любовью»? — засмеялась она. Но через минуту на лице ее отразилось разочарование. — В мое время юноши писали девушкам акростихи, посылали цветы, недели проходили, прежде чем они решались на поцелуй. В какую мерзость превратили любовь нынешние сопляки, Марито!
Перед кассами кинотеатра между нами возник бурный спор из-за того, кто будет платить за билеты. Вытерпев полтора часа на экране Долорес дель Рио [5] с ее стенаниями, объятиями, ласками, рыданиями, бегущую по сельве с распущенными волосами, мы вернулись в дом дяди Лучо опять пешком. Накрапывал дождь, неслышно падая на волосы и на одежду. Мы снова заговорили о Педро Камачо. Неужели она действительно никогда не слышала о нем? Ведь по утверждению Хенаро-сына, тот слыл знаменитостью в Боливии. Нет, она ничего не знала о нем, даже не слыхала такого имени. Я подумал, что Хенаро здорово провели или, возможно, так называемая радиотеатральная индустрия Боливии была его собственным измышлением, чтобы эффектнее подать туземного борзописца. Три дня спустя я увидел Педро Камачо собственной персоной.
У меня только что произошло столкновение с Хенаро-отцом из-за того, что Паскуаль, одержимый страстью к стихийным бедствиям, посвятил всю радиосводку, подготовленную к передаче в одиннадцать часов, землетрясению в Исфахане [6]. Хенаро-отца возмутил не столько сам факт, что Паскуаль пренебрег всеми другими новостями, чтобы рассказать в подробностях, как уцелевшие после катастрофы персы подверглись нападению шипящих и свистящих от ярости змей, которые выползли из своих разрушенных убежищ, сколько то, что землетрясение это произошло неделю назад. Я вынужден был согласиться: да, Хенаро-отец был, в конце концов, прав, и я буквально надорвался, ругая Паскуаля. Откуда извлек он эту «свежайшую новость»? Из какого-то аргентинского журнала. А почему отколол такую глупость? Оттого что не было ни единого важного актуального события, а это сообщение было по крайней мере захватывающим. Когда я разъяснил Паскуалю, что нам платят деньги не за то, чтобы мы развлекали слушателей, а за то, чтобы давали обзор событий за день, он выдвинул свои неопровержимые доводы, снисходительно покачивая при этом головой: «Дело в том, что наши точки зрения на журналистику не совпадают, дон Марио». Я уже собирался заявить ему, что если он будет упорствовать и каждый раз за моей спиной применять свои «принципы терроризирования слушателей» в журналистике, то мы очень скоро — и вдвоем — окажемся на улице, как вдруг в дверях нашей будки неожиданно возник чей-то силуэт. Это было маленькое и тощее существо, почти карлик, с большим носом и необыкновенно живыми глазами. Оно было одето во все черное, без труда можно было заметить потрепанность его тройки, пятна на рубашке и на галстуке-бабочке. Однако в его манере носить одежду было некое благородство, чувство собственного достоинства и чинность, как у кабальеро, что смотрят на нас со старинных фотографий, заточенные в свои чопорные сюртуки и безупречные цилиндры. Возраста он был неопределенного — ему вполне можно было дать от тридцати до пятидесяти лет. Отличала его к тому же маслянистая черная шевелюра, спускавшаяся до плеч. Походка, движения, выражение лица — все было неестественным и скованным и вызывало воспоминания о механической кукле или марионетке, которую дергают за веревочку. Существо отвесило вежливый поклон и с торжественностью, такой же необычной, как и его внешний вид, обратилось к нам следующим образом:
5
Известная мексиканская киноактриса 40-50-х годов.
6
Город в Иране.