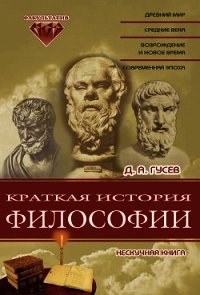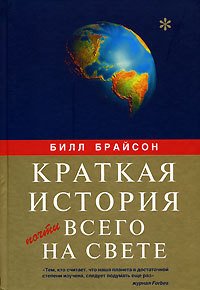Краткая история тракторов по-украински - Левицкая Марина (е книги .TXT) 📗
— Меня тоже! Меня тоже забери!
Его голос был низким, сдавленным, а руки и ноги— жесткими, словно их свело судорогой.
Утром, когда ее унесли, он с перепуганными глазами сидел в задней комнате. Через некоторое время сказал:
— Ты знала, Надежда, шо, кроме математичеського доказательства теоремы Пифагора, есть ище и геометричеське? Дивись, яке оно красиве.
И он начал чертить на листе бумаги линии и углы, соединенные маленькими символами, и что-то бормотать над ними, записывая уравнение.
Совсем свихнулся, подумала я. Бедный Коля.
За несколько недель до смерти, лежа на больничной койке, обложенная подушками, мама начала волноваться. Соединенная проводами с монитором, показывавшим грустную пульсацию ее сердца, она жаловалась на общую палату, где уединиться можно только за быстро задергивающейся шторой, и на докучливое сопение, кашель и храп стариков. Она вздрагивала от прикосновения безликих, коротких пальцев молодого медбрата, приходившего склеить провода над сморщенной грудью, случайно оголявшейся под больничным халатом. Она была просто больной старой женщиной. Какое кому дело до ее мыслей?
Уйти из жизни труднее, чем кажется, сказала она. Прежде чем почить с миром, многое нужно уладить. Кто позаботится о Коле? Только не дочери — они девочки неглупые, но склочные. Что их ждет? Будут ли они счастливы? Смогут ли обеспечить их те симпатичные, но никчемные мужчины, с которыми они связали свои судьбы? И три внучки — такие хорошенькие, а до сих пор без мужей. Так много всего еще надо решить, а силы уже на исходе.
Мама написала завещание прямо в больнице, пока мы с Верой обе стояли над ней, поскольку не доверяли друг другу. Написала дрожащей рукой, и документ засвидетельствовали две медсестры. Столько лет она была сильной, а теперь стала слабой. Мама была старой и больной, но ее наследство, ее накопленные за всю жизнь сбережения бурлили энергией в кооперативном банке.
Одно она решила твердо — папа не получит ничего.
— Видный Николай, у него ума нема. Одни самошедши проекты. Лучче поделить усё меж собой.
Она говорила на своем доморощенном языке — украинском, пересыпанном словами типа «хендиблендера», «суспенде рбелтом», « по— гарденськи».
Когда стало ясно, что врачи ей уже ничем помочь не смогут, маму выписали и отправили умирать домой. Моя сестра сидела с ней почти весь последний месяц. Я приезжала на выходные. Где-то в течение этого последнего месяца, в мое отсутствие, сестра написала дополнение к завещанию, по которому деньги делились поровну не между нею и мною, а между тремя внучками — моей Анной и ее Алисой и Александрой. Мама подписала эту бумагу, и двое соседей ее заверили.
— Не переживай, — сказала я маме перед смертью, — все будет хорошо. Мы будем скорбеть, нам будет тебя не хватать, но все у нас будет хорошо.
Но все оказалось плохо.
Ее похоронили на сельском кладбище — на новом участке, смежном с полями. Ее могила была последней в ряду новых аккуратных могилок.
Три внучки — Алиса, Александра и Анна, высокие и белокурые, — бросили в могилу розы и несколько пригоршней земли. Скрюченный артритом Николай, с землистым лицом и безучастным взглядом, в безмолвном горе ухватился за руку моего мужа. Дочки Вера и Надежда — сестра и я — готовились к борьбе за мамино завещание.
Когда гости вернулись с похорон домой, чтобы поесть холодных закусок и пригубить украинской самогонки, мы с сестрой столкнулись на кухне. Она была в черном шелковом трикотажном костюме, купленном в каком-то скромном магазинчике подержанной одежды в Кенсингтоне. Туфли с небольшими золочеными пряжками, сумка «Гуччи» с маленькой золоченой застежкой и тонкая золотая цепочка на шее. Я была в черном, подобранном по фасону в «Оксфаме» 1. Вера критически осмотрела меня с ног до головы.
— Да, видок у тебя сельский. Все понятно.
Мне сорок семь, и я преподаю в университете, но когда со мной говорит сестра, я мгновенно превращаюсь в сопливую четырехлетнюю девчонку.
— Ну и что здесь плохого? Мама жила в селе, — парировала четырехлетняя девочка.
— И то правда, — ответила Старшая Сестра. Она закурила сигарету. Дым изящными завитками поднялся вверх.
Наклонившись, она спрятала зажигалку в сумку «Гуччи», и я увидела, что на золотой цепочке у нее на шее висит небольшой медальон, спрятанный за отворот пиджака. Он выглядел странно и допотопно на фоне стильного Вериного костюма, как будто попал сюда по ошибке. Я уставилась. На глаза навернулись слезы.
— Ты носишь мамин медальон.
Это единственная драгоценность, привезенная мамой с Украины: благодаря небольшим размерам ее удалось спрятать в кайме платья. Этот медальон мамин отец подарил на свадьбу ее матери. Внутри медальона две их выцветшие фотографии улыбались друг другу.
Вера пристально посмотрела мне в глаза.
— Она сама дала мне. — (Я этому не поверила. Мама знала, что мне нравился этот медальон, что я хотела получить его больше всего на свете. Наверное, Вера украла его. Другого объяснения я не находила.) — Так что ты хотела сказать насчет завещания?
— Я просто хочу, чтобы все было по справедливости, — проскулила я. — Что же в этом плохого?
— Надежда, мало того, что ты подбираешь в «Оксфаме» одежду, так еще и живешь тамошними представлениями?
— Ты взяла медальон. Ты заставила ее подписать дополнение. Разделить все деньги поровну между тремя внучками, а не разделить их между двумя дочками. Поэтому ты и твоя семья получили вдвое больше. Какая ты жадина!
— Ну, знаешь ли, я в шоке, что ты так думаешь. — Ухоженные брови Старшей Сестры вздрогнули.
— А уж в каком шоке была я, когда об этом узнала! — проблеяла Соплячка.
— Тебя ведь с нами не было, сестрица. Ты занималась благородными делами. Мир спасала. Делала карьеру. Свалила всю ответственность на меня. Как обычно и поступала.
— А ты изводила ее в последние дни рассказами о своем разводе, о грубостях мужа. Пока она умирала, ты как паровоз дымила у ее постели.
Старшая сестра стряхнула пепел с сигареты и театрально вздохнула.
— Видишь ли, Надежда, беда вашего поколения в том, что вы просто нахватались вершков. Мир. Любовь. Рабочее самоуправление. Вся эта идеалистическая чушь. Вы можете себе позволить безответственность, потому что никогда не видели изнанки жизни.
Почему меня так бесит манерная аристократическая речь моей сестры? Да потому что я чувствую фальшь. Я знаю, что такое спать в одной кровати на двоих, знаю о туалете во дворе и разорванной на квадратики газете для подтирки. Меня ей не провести. Но я тоже могу ее подколоть.
— Значит, тебя беспокоит изнанка жизни? Так запишись на консультацию, — лукаво посоветовала я своим профессиональным голосом «будем благоразумными» — тем голосом «взгляни, как я повзрослела», каким обычно беседую с папой.
— Пожалуйста, не говори со мной этим тоном социального работника, Надежда.
— Сходи к психотерапевту. Разберись с этой изнанкой, выверни ее наружу, пока она не съела тебя изнутри. — (Я знала, что ее это бесит.)
— Консультации. Психотерапия. Давайте поговорим о наших проблемах. Давайте обнимемся, и нам всем станет легче. Давайте поможем обездоленным. Давайте отдадим все свои деньги голодающим детям.
Она злобно куснула бутерброд. На пол упала оливка.
— Вера, ты пережила тяжелую утрату и развод. Немудрено, что ты сейчас в стрессовом состоянии. Тебе нужна помощь.
— Все это самообман. Внутри люди жестокие и подлые — думают только о себе. Ты даже не представляешь, как я ненавижу социальных работников!
— Представляю. Но я не социальный работник, Вера.
Отец тоже был в ярости. В смерти мамы он винил врачей, мою сестру, Задчуков и человека, скосившего за домом высокую траву. Иногда он винил себя. Он бродил по дому и бормотал: если бы не это да если бы не то, Милочка была бы жива. Наша маленькая иммигрантская семья, которую издавна сплачивали мамина любовь и мамин борщ, распадалась на глазах.
1
«Оксфам» — Оксфордский комитет помощи голодающим, благотворительная организация с центром в Оксфорде; занимается оказанием помощи голодающим и пострадавшим от стихийных бедствий в различных странах. От «Oxford Famine Relief». — Здесь и далее прим. переводчика.