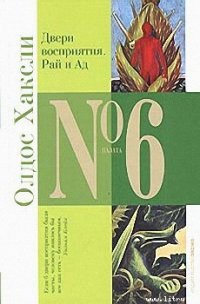Обезьяна и сущность - Хаксли Олдос (электронные книги бесплатно txt) 📗
– Такое добро они получают тысячами, – пояснил Боб.
Я принялся листать сценарий.
– Снова стихи.
– О Господи! – с отвращением воскликнул Боб.
Я начал читать:
Но это ж ясно.
Это знает каждый школьник.
Цель обезьяной выбрана, лишь средства – человеком.
Я умолк. Мы с Бобом вопросительно переглянулись.
– Что ты об этом думаешь? – поинтересовался он в конце концов.
Я пожал плечами. Я действительно не знал, что думать.
– Во всяком случае, не выбрасывай, – попросил Боб. – Хочу просмотреть остальное.
Мы двинулись в путь, еще раз завернули за угол и оказались у францисканского монастыря, окруженного пальмами; это и было здание, где размещались сценаристы.
– Тэллис, – пробормотал Боб, когда мы вошли. – Уильям Тэллис… – Он покачал головой. – Никогда о нем не слышал. Кстати, Мурсия – это где?
В следующее воскресенье мы уже знали ответ – не теоретически, из карты, а практически: мы отправились туда на «бьюике» Боба (точнее, Мириам) со скоростью восемьдесят миль в час. Мурсия, штат Калифорния, представляла собой две красные заправочные колонки и крошечную бакалейную лавчонку на югозападной оконечности пустыни Мохаве.
Долгая засуха кончилась два дня назад. Небо было все еще затянуто тучами, с запада устойчиво дул холодный ветер. Под шапкой сероватых облаков горы Сан-Габриэль казались призрачными и белели свежевыпавшим снегом. Однако далеко в пустыне, на севере, сверкала длинная узкая полоса золотого солнца. Вокруг преобладали темно-серые и серебряные, а также бледно-золотые и желтовато-коричневые цвета пустынной растительности – полыни, чертополоха и гречихи; кое-где виднелись раскорячившиеся юкки – у одних стволы были гладкими, у других покрыты высохшими колючками, а концы их изломанных ветвей украшали гроздья шипов зеленоватого металлического оттенка.
Глухой старик, которому нам пришлось кричать в ухо, в конце концов понял, о чем мы его спрашиваем. Ранчо Коттонвуд? Еще бы не знать! Нужно проехать примерно милю на юг по этой грязной дороге, потом повернуть на восток, проехать еще три четверти мили вдоль оросительной канавы – и все. Старик собрался было сообщить нам еще какие-то подробности, но Бобу стало невтерпеж. Он выжал сцепление, и мы уехали.
Вдоль канавы росли посаженные человеческой рукой ивы и тополя, пытавшиеся среди этой суровой пустынной растительности жить другой, более легкой и приятной жизнью. Сейчас они были безлисты – скелеты деревьев, белеющие на фоне неба, но мне ясно виделось, какой сочной будет через три месяца зелень их молодых листьев в лучах палящего солнца.
Слишком быстро ехавшую машину неожиданно тряхнуло на выбоине. Боб чертыхнулся.
– Не понимаю, как нормальный человек мог поселиться в конце такой дороги.
– Вероятно, он просто ездит медленнее, – осмелился предположить я.
Боб не удостоил меня даже взглядом. Машина продолжала грохотать на той же скорости. Я попытался сосредоточиться на пейзаже.
Тем временем пустыня бесшумно, но необычайно стремительно преобразилась. Тучи разогнало, и солнце освещало теперь ближайшие к нам обрывистые и иззубренные холмы, которые неизвестно почему вздымались среди бескрайней равнины, словно острова. Еще минуту назад они были черны и мертвы. Теперь – внезапно ожили; перед ними еще лежала тень, за ними клубилась тьма. Они словно светились сами по себе.
Я тронул Боба за руку и указал на холмы:
– Теперь понимаешь, почему Тэллис поселился в конце этой дороги?
Боб быстро посмотрел в сторону, объехал упавшую юкку, еще раз на долю секунды задержал взгляд на пустыне и снова перевел глаза на дорогу.
– Это напоминает мне одну гравюру Гойи – ты знаешь, о чем я говорю. Женщина едет верхом на жеребце, а тот, повернув голову и захватив зубами край ее платья, старается стащить всадницу с седла или разорвать ее одежду. Она смеется, радуется как сумасшедшая. А на заднем плане – равнина с такими же, как здесь, торчащими холмами. Но если к холмам Гойи присмотреться, то видишь, что это вовсе не холмы, а припавшие к земле животные – наполовину крысы, наполовину ящерицы величиною с гору. Я купил Элейн репродукцию этой гравюры.
Снова наступило молчание, и я подумал, что Элейн не поняла намека. Она позволила жеребцу стащить себя на землю и лежала, безудержно хохоча, а крупные зубы уже рвали ее корсаж, в клочья раздирали юбку, пощипывали нежную кожу; это было страшно и восхитительно – трепет перед неминуемой болью. А потом, в Акапулько, огромные крысы-ящерицы восстали от своего каменного сна, и бедняга Боб внезапно оказался не в окружении прелестных и томных граций или роя смешливых купидонов с розовыми попками, а среди чудовищ.
Тем временем мы добрались до места. За росшими вдоль канавы деревьями, под высоченным тополем стоял белый каркасный дом, по одну сторону которого виднелась ветряная мельница, по другую – амбар из рифленого железа. Ворота были закрыты. Боб остановил машину, и мы вылезли. К столбу ворот была прибита белая доска. На ней красовалась выведенная неумелой рукой ярко-красная надпись:
Пиявки лобзанья, и спрута объятья,
И ласки гориллы, от похоти шалой…
А люди вам нравятся – ваши собратья?
Да нет, пожалуй.
Это про тебя, ступай отсюда.
– Похоже, мы приехали правильно, – заметил я.
Боб кивнул. Мы открыли ворота, прошли по плотно утоптанной земле широкого двора и постучались. Дверь отворилась почти мгновенно: на пороге стояла полная пожилая женщина в очках, одетая в голубое хлопчатобумажное платье в цветочек и видавшую виды красную кофту. Женщина дружелюбно улыбнулась и спросила:
– Сломалась машина?
Мы отрицательно покачали головами, и Боб объяснил, что мы приехали к мистеру Тэллису.
– К мистеру Тэллису?
Улыбка на лице нашей собеседницы увяла; женщина посерьезнела и покачала головой.
– Разве вы не знаете? – спросила она. – Мистер Тэллис оставил нас полтора месяца назад.
– Вы имеете в виду умер?
– Оставил нас, – повторила она и принялась рассказывать. Мистер Тэллис снял дом на год. Они же с мужем переехали в старую лачугу за амбаром. Правда, уборная там снаружи, но они к этому привыкли, еще когда жили в Северной Дакоте, да и зима, по счастью, выдалась теплая. Во всяком случае, они радовались деньгам – при теперешних-то ценах! – да и мистер Тэллис был очень мил, особенно когда они поняли, что он любит уединение.
– Должно быть, это он повесил объявление на воротах?
Пожилая леди кивнула и объяснила, что это-де такая уловка и что снимать доску она не намерена.
– Он долго болел? – поинтересовался я.
– Совсем не болел, – отозвалась она. – Хотя постоянно твердил про больное сердце.
Из-за него-то мистер Тэллис и оставил этот мир. В ванной. Она нашла его там однажды утром, принеся ему из лавки кварту молока и дюжину яиц. Он был уже холодный как камень. Наверное, пролежал всю ночь. В жизни она не испытывала подобного потрясения. А сколько хлопот потом – никто ведь не знал, есть ли у него где-нибудь родня. Вызвали врача, затем шерифа и, только получив разрешение суда, похоронили беднягу, который к тому времени уже отнюдь не благоухал. А потом его книги, бумаги и одежду сложили в коробки и запечатали, и теперь все это хранится где-то в Лос-Анджелесе – на случай, если объявится наследник. Теперь они с мужем снова перебрались в дом, и она чувствует себя неловко, потому что бедный мистер Тэллис заплатил вперед и мог бы жить здесь еще четыре месяца. Но, с другой стороны, конечно, она рада, потому что пошли дожди, иногда и снег, и уборная в доме, а не во дворе, как когда они жили в лачуге, – большое дело.
16
Павиан (лат.).