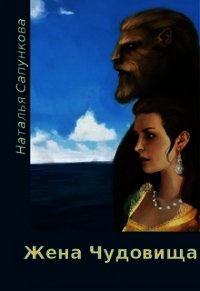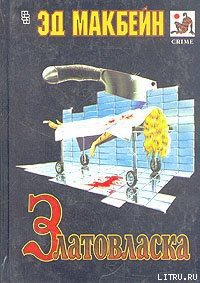Вальс с чудовищем - Славникова Ольга Александровна (читать хорошую книгу полностью .TXT) 📗
Антонов тогда вляпался совсем не так глубоко: дело ограничилось серией бесед с двумя настойчивыми, но чрезвычайно вежливыми мужчинами в штатском, которые были бы совершенно однотипны, если бы не разница в габаритах, – из-за чего и нервный изящный малыш, и долговязый великан, все время смотревший себе на колени, точно тайком читавший под столом какую-то книгу, казались какими-то нестандартными, а потому и не очень опасными экземплярами. Звания их находились в обратной пропорции к размерам; вопросы, задаваемые Антонову в предположительно-утвердительной форме, касались даже не столько Аликова дома (где по уикендам появлялся, в качестве неизбежного гостя, интеллектуальный, с бодрой кроличьей улыбкой, факультетский стукачок), сколько периферии дома и семейства – некой туманной, приливавшей и отливавшей стихии со своими двоякодышащими обитателями, – стихии, не соединявшей дом с остальным, дождливым и каменным миром, но превращавшей его в зачарованный остров, где горела мандариновая лампа. Эта-то стихия и выходившие из нее неясные фигуры (артистический старец с хохлатыми висками и с перхотью на черном пиджаке, узенькая поэтесса, делавшаяся по-крестьянски большеногой, когда тяжело ступала на пол с высоченных каблуков, еще какая-то москвичка с облупленным, как ржавчина, сочинским загаром, прочая разнополая богема, одетая так, как вещи висят на вешалках в шкафу) более всего интересовали капитана и старшего лейтенанта. За внешней их доброжелательностью происходила видимая Антонову изнаночная работа: штатские все время обменивались какими-то записями – долговязый, двинув бумагу старшему по званию, одновременно шаркал под столом подошвой и тут же снова утыкался в воображаемую книгу, а малыш, пригораживая полученное согнутым локтем, не забывал поощрительно кивать лепетавшему Антонову, который так уставал во время этих собеседований, словно сидение на стуле было самой неестественной позой на свете. Он действительно сидел перед своими вопрошателями настолько напряженно, что к нему на сомкнутые колени можно было, как на стул, посадить еще одного ответчика; он запоминал навеки толстую стеклянную пепельницу с аккуратно запечатанным «бычком» на желобке, импортные, цветные, как счетные палочки первоклассника, канцелярские принадлежности малыша, и ему уже казалось, что он вообще не знает в жизни ничего, кроме этих людей и этого места, и выходит отсюда в цветущую теплынь совершенным чужаком.
Собственно, вопросы, задаваемые штатскими, как раз показывали Антонову, что он не имеет ни малейшей информации о людях, вечерами витавших в перламутровой от табачного дыма гостиной, где мандариновая лампа над круглым, с шелковыми кистями, столом освещала главным образом руки – дамские, плавно расставлявшие тарелки, старческие, в жилах и веснушках, державшие с павлиньей важностью богатый веер игральных карт: верный проигрыш в «дурака». До Аликовой берлоги, где его измятая лежанка теряла всякую мебельную родовую принадлежность среди наносов и завалов великого множества книг, иногда доносились декламация рояля, неестественно красивое, немного режущее сопрано. Могло бы показаться, что в гостиной царит сплошное веселье, хотя в действительности там все время поминали каких-то умерших, еще более незнакомых, чем эти туманные живые, представленные на столе пустыми либо недопитыми рюмками: среди них одна, нетронутая, была полна прозрачной водкой до самых краев, и там, как зародыш в яйце, содержалось нечто цветное от этой комнаты, и пожилой артист, расстегнувшись, держался за сердце.
Жизнь «молодежи» сосредоточивалась налево и наискось, через темный и узкий, точно горная щель, коридор: у Алика сидели на полу, крутили юливший музыкой и шарахавший треском радиоприемник в поисках «голосов», разбирали, передавая по кругу, скользкие пачки фотографий, где не было людей, а был очередной «антисоветский» текст, расплывавшийся от какой-то человеческой близорукости, свойственной «Зениту» Сани Веселого, – который трудился, будто Пимен, над свитками фотопленки, если Алику удавалось раздобыть очередной крамольный оригинал. Аликова берлога, конечно, обособлялась от гостиной, четверть которой занимал огромный, как черная Африка, гудящий, как джунгли, рояль, – но все-таки и берлога принадлежала к острову, удивительно далекому от внешнего мира, где таилась угроза, но главным образом – скука. Там, вовне, флаги и лозунги на почти бесцветных, разъедаемых воздухом зданиях походили на одежду, свисавшую из ящиков неряшливых шкафов; там молодец-второгодник (тоже, как и многие, перебравшийся в местную столицу из отравляемого кислым и едким заводом районного центра) работал на Колхозном рынке рубщиком мяса и смачно тюкал по глухим деревянным тушам, похожим на вытянутых в беге игрушечных лошадок, – заматеревший, с мощными, как у соснового пня, корнями багровой шеи, с левой половиной золотых, неестественно крупных зубов, которые мокро скалились, когда он хекал по жирному дереву или устанавливал на сером, скользком, словно намыленном чурбаке какой-нибудь сложный кусок. Внешний, за пределами острова, мир был совершенно нормален, он содержал и являл индивидууму норму – в виде трамвайных правил поведения пассажиров или настенных учрежденческих инструкций по спасению в центре ядерного взрыва, где картинки напоминали панораму колхозных полевых работ. Даже водка на магазинных витринах стяла прозрачно-трезвая, как бы пустая, а цумовские манекены комсомольского возраста настолько мало обращали внимания на свою одежду (действительно не имевшую значения), как редко удается кому-либо из людей, – зато их убедительные жесты инструкторов неизменно привлекали внимание толпы. На острове нормы не существовало вообще; этого не понимал стукачок Валера, старавшийся изо всех интеллектуальных возможностей сделаться в этих многолюдных комнатах своим. Потому он и торчал у всех на виду, одетый диссидентом в навозно-желтый замшевый пиджачок и тесные, с болезненной гримасой в паху, вельветовые брючки; его заученные жесты, явно вычисленные путем наблюдения за обществом, выдавали, повторяясь, производственный процесс.
Здесь сумасшествие было игрой: поскольку эта область относилась не к обществу, а к личности и к потаенным ее глубинам, не вполне постигнутым наукой, то и делать из себя немножко психа считалось делом сугубо личным, в лучшем случае – делом кружка, куда человек приходил с колыхавшимся мешком целительного пива и с разнеженным от чтения журналом «Иностранная литература». Здесь не только пили, читали и слушали радио: сюда, бывало, попадал от взрослых по чьему-то недогляду драгоценный кокаин. Тончайшее снадобье удивительно плотной и холодной белизны содержалось в дамской фарфоровой банке с туго отнимавшейся крышкой; проделав в три приема процедуру ответственного отвинчивания, сосредоточенный Алик брал на острую, совершенно игрушечную ложечку такую же острую порцию и, помаргивая, постукивая пальцем, отчего алмазная мука помаргивала тоже, выкладывал на карманное зеркало две неровные, с избытками, дорожки, после чего первый приобщавшийся получал пластмассовую соломину и, наклоняясь, прижимал дрожащим пальцем лишнюю ноздрю. Ледяной бодрящий кокаин замораживал нос, превращая его в видимый скошенным зрением плотный отросток, зато в полегчавшей голове озарялась синим светом блаженная пустота, и сложно было представить, как у человека может что-нибудь болеть.
Все чувства у Антонова становились праздничными, даже дырявые носки, цеплявшиеся снутри за ногти скрипучих пальцев, казались почему-то шелковыми, хотя и были самыми простыми, – а что касается чувства времени, которое Антонов знал, сколько помнил себя, то оно, обычно ровное и точное (еще не обладавшее теми стройными перспективами, тою таинственной архитектурой, какие получило в дальнейшем), обогащалось как бы волной. Будущее, перетекая в прошлое, словно проходило через лупу, и в настоящем, державшемся ненормально долго перед остекленелыми глазами Антонова, все было выпукло, влажно, немного мохнато, журнальная страница была как таблица на приеме у окулиста, хотя Антонов совершенно свободно разбирал превосходный, черезвычайно остроумный текст. Вообще обстоятельства, в обычной жизни досадные, теперь становились источником удовольствия: некоторая скованность словно продрогшего тела, остолбенение, какое бывает зимой на остановке в долгом ожидании автобуса, здесь никому не мешали веселиться. Те, кому это было нужно, передвигались, словно пингвины, среди сидевших на полу, среди их сгибавшихся и разгибавшихся, застревавших на пятках разнообразных ног, – и все получали из гостиной замечательные пирожные с белоснежным кремом, чей чопорный вид на изогнутом блюде вызывал по-женски мелодичный смех исключительно мужской, живописно расположенной компании. Конечно, по утрам Антонову бывало хреново: головная боль напоминала начало сильнейшего гриппа, а главное – вокруг него возникала какая-то несовместимость поверхностей и фактур, его продирало, если сахар просыпался на липкую кухонную клеенку или шерстяной хозяйский плед касался мокрого полотенца, кое-как служившего компрессом и при отжимании выпускавшего такую серую воду, точно им помыли полы. Вещи были недотрогами; выпаренная за ночь щетина горела на лице; тугая боль наполняла глаза, египетские от засохших потеков воды, что ползли, холодея, из нагретого полотенца; квартирная хозяйка – тогда еще другая, кареглазая старушка с комсомольской стрижкой двадцатых годов и с неизлечимой болезнью сердца, пронесенной через всю учительскую жизнь, – очень беспокоилась и давала Антонову свои лекарства в виде накапанного в чашку мятного молока и каких-то мелконьких таблеток, увязавших во рту, словно комочки муки в перемешиваемом тесте. В таком раздавленном состоянии Антонов даже начинал побаиваться последствий игры, но и отказываться не хотел. Его привлекал не столько праздник чувств, за который потом приходилось платить, сколько то, что, как он думал, доставалось совершенно бесплатно. То была особенная, интимная любовь к самому ритуалу, равная разве что той, какую Антонов испытывал к неторопливому копанию в книжках, к ладной тяжести потертого тома, к ощущению в руке его запрятанного, точно слиток, содержимого, к сухим, осенним запахам больших библиотек. У Антонова теплело на душе, когда у Алика в длинных факирских пальцах появлялась фарфоровая банка с бледно, как бы изнутри, нарисованным цветком и все обменивались понимающими взглядами, не забывая и того, кто почему-либо замешкался в углу, ласково поджидая, когда отставший нескладно оторвется от пола и присоединится к остальным. Во время медлительной процедуры, должно быть, неэстетичной для стороннего наблюдателя (лица кривились и глаза косили над ледянисто-мутным кокаиновым зеркалом), Антонов всем существом переживал усилия товарищей, будто он сам пугался коснувшейся снадобья пряди волос или ронял обхитрившую пальцы соломину, после чего неуклюже искал ее около собственных двух, широко расставляемых ног, недоуменно заглядывая за свои отступавшие пятки. Антонов испытывал странную нежность и сочувствие к подержанному, исполненному плоского достоинства Саниному пиджаку, к черной от пота серебряной цепочке на тощенькой шейке некрасивой девицы, все-таки затесавшейся в компанию мужчин, к ее босым ступням, белеющим будто ангельские крылышки; каждого, кто наклонялся с ищущей соломиной к дорожкам кокаина, Антонов хотел бы погладить по голове. Даже появление в дверях доброжелательного Валеры, небрежно державшего в сложенных комариком пальцах золоченую кофейную чашечку и время от времени тонко касавшегося губами испачканного края, вызывало только ответные улыбки. Никто, кроме Антонова, не знал, сколько времени Валера, вытесненный взрослой и молодой компаниями, проводит в темном коридоре, завешанном горами бесформенной, как бы беременной одежды, к которой он иногда припадает плечом, посасывая сквозь зубы кофейную гущу. Антонов считал необходимым приглядывать за Валерой, и, если кто-нибудь надолго занимал разбитый, верхним перекошенным углом горевший туалет, он был уверен, что там, на желтом от старости унитазе, коротает время за чтением рваной газетки одинокий стукачок. Однако когда на божий свет появлялся, ломко отслаиваясь с ложечки на зеркало, заветный порошок, даже Валера становился как бы членом семьи, и хотя он неизменно, прикладывая руку ковшиком к сердцу, отказывался попробовать, его приглашали «просто посидеть» со всеми на полу, среди разбросанных фотоснимков и брошюр, – что и было, вероятно, самым непростительным сумасшествием.