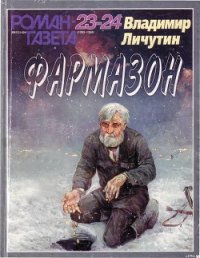Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (читать книги полностью без сокращений .txt) 📗
Глаза мои увлажнились от проникновенного тона, даже в голове замурашилось, и я чуть не заплакал. Чтобы не выдать непрошеную слезу, я заскоркал ногтем по одеялу, словно нашел сальное пятно.
– А вы своих матерей почитаете? – закричала Анна. Мое покорство лишь поддавало жару. – Вы своим матерям жизни даете? А ведь она спородила, выкормила... Вот и Зулус зачем мать не допокоил? Она-то ему: «Сынок, не спроваживай меня в богадельню. Хочешь, на колени встану. Не долго ждать-то осталось, потерпи... Умру, так после наплачешься». А он врачу подмазал, чтобы справку дал. А теперь вот и собирай горя. Все! Назад лошадь с кладбища не возит.
Я не отзывался, морщил пальцами белоснежную наволоку и во всем, безусловно, был согласен со старухою, хотя и были в словах ее какие-то закорючки, что цепляли мой ум и загоняли в тупик. В какой же страдный день был Зулусу высказан остерег, но он не внял ему? Откуда и зачем было ведать соседке, что моя головенка уже лет двадцать не знает отпусков и соображает, глупенькая, над каждым словом, разнося их по невидимым каталожным ящичкам.
– Вставай, лежень! – уже остывше, приговаривала Анна. Пыл ее иссяк, и бабьи мысли скинулись на постоянные домашние заботы. – Уже обедать пора, а ты еще и в тувалет не ходил...
– Откуда знаешь? Подсматривала, что ли?
– Да глаза красные, как у окуня, – грубо ответила старуха.
Анна со скрипом встала, долго разгибалась, кряхтя, разламывала поясницу и так, на полусогнутых, будто громадный рак-каркун с отвислыми до полу клешнями, потащилась к порогу, а там, взявшись за ручку двери, вдруг решительно выпрямилась и вновь обернулась медведицей.
10
Марьюшку я нашел в заветном уединенном месте, куда она частенько забивалась, как в скорлупу, словно бы возвращалась назад в материну рожалку, и, свернувшись в клубочек, подтянув колени к подбородку, замирала надолго иль свертывалась в клубенечек, будто улитка в укромной пазушке боровика, прильнувши к теплой, пахучей, ноздреватой бахроме.
Приобнимая тело великана, с одной стороны рос разлапистый можжевеловый куст, чудом пробившийся на чужинке, и в этом месте оказался засидок, сторожка, скрытая, куда можно было упехаться в знойный день, бросив под ноги пальтюшку иль поставив сидюльку. Матушка же моя положила туда дощечку и обжила потаенное место, хотя, казалось бы, чего прятаться от людей, в избе не семеро по лавкам, не надоедят криком. Значит, даже я раздражал Марьюшку порою своим присутствием, выдавливал ее из кухни, заставлял искать одинокого места, чтобы полностью отдаться своим мыслям. Старая без людей тоскует, потому часто вылезает на лавочку перед избой, чтобы переброситься словцом с проходящими иль просто поглазеть, иль ползет к соседнему палисаду, где уселась на скамье на долгую минутку другая старбеня, но краше всего, оказывается, монашьи минуты полного утекания в тишину, растворения в матери-природе, превращения в безмолвную соринку, затерявшуюся меж древесного праха.
Осторожно, стараясь не шуршать осотой, я подкрался к вязу, опустился на колени, в прожилках меж паутины молодых веток, густо опушенных еще не затвердевшей хвоею, отыскал глазок для тайного досмотра. Как я и представлял, Марьюшка моя ютилась там, уткнув голову в острые коленки, и о чем-то думала, присомкнув веки. Сумеречно было в схороне, и от зеленого туманца, витающего в шалашике, лицо Марьюшки казалось тонким, нежным и молодым. Приобвяленная темная кожа как бы вобрала в себя все морщины, прильнула натуго к скульям, и сейчас мать моя походила на древний староверческий образ Богоматери, чудом покинувший деревянную досточку. Платочек шалашиком, присдвинутый на затылок, тонкие волосы на пробор, отложной воротник кофты, скрывающий худую потрескавшуюся шею. В каких просторах она парила умом, в какие дали слетала, о чем помыслила? А может, ни о чем и не думала, изнежась плотью в прохладе скрытни, а просто отдыхала всем измаянным, изжитым существом своим, сливаясь с матерью-землею, готовясь к переходу в ту заветную пустыньку, откуда нет возврата. И так, погрузившись в себя, Марьюшка могла сидеть, не шелохнувшись, и два часа, и три, пока стылость от древесного праха и шершавых кореньев не проливалась в ее измозглые кости и нытье старых мослов не доходило до сердца, и тогда Марьющка выпрастывалась из плена раздумий и, пошатываясь, как бы хмельная, огородом спускалась к дому, чтобы снова хлопотать обрядню.
Спросил однажды Марьюшку: «Мама, о чем ты думаешь, когда вот так сидишь?» – «А о чем, сынок, думает старый человек? – просто ответила Марьюшка. – Старый человек думает о смерти с утра до ночи. И помирать бы надо, пора приспела, и помирать неохота...»
Сейчас, занятая собою, телом своим слившаяся со шкурой вяза-великана, она, казалось, была уже по ту сторону света, уже недостижимая для меня. Я испугался внезапно, что могу потерять ее навсегда, и тихо позвал, стараясь не выпутать:
– Мама!..
Марьюшка не всполошилась, нет, она даже и не вздрогнула, но мерно перевела остывший взгляд в мою сторону, нашарила меж розвеси ветвей мои глаза и спросила сухо:
– Ты давно здесь?
– С год, наверное, а то и поболе...
Но Марьюшка не поняла моей шутки, тревожно вскинула голову как будто разговаривала с привидением. Она неохотно возвращалась с той стороны, и только жалость ко мне пока оставляла старую на этом берегу.
– Ты взаболь?..
– Не вру... Мама, а можно я посижу рядом. Ты – щепинка, я – щепинка, прильнем и уместимся. Мне много места и не надо. А то мы всегда разделены то обеденным столом, то ненужным разговором, то печалями, то заботами. Ты, как птичка болотная, как турухтанчик, – один нос, – посмеялся я, стараясь вывести матушку из страны смерти. Я отчего-то догадывался, что она сейчас побывала там, и грусть от встречи с будущим все еще держит ее на расстоянии от живых.
Я пролез в шалашик и в действительности, по сравнению с Марьюшкой, оказался грузным, тельным и занял все тенистое укрывище, лишил матушку блаженного уединения, покусился на ее свободу. Марьюшка, как беззащитный небесный барашек, оказалась где-то внизу, под плечом, и крохотные коричневые лапки, покрытые просторной обвисшей кожею, казалось, были всунуты в чужие разношенные перчатки, но все так же цепко обнимали шишковатые коленки. Я прижал Марьюшку к себе, ладонью ощутил ее слабые хрупкие косточки, беззащитное безмясое плечико. От нее пахло старым, изношенным, смертным, как пахнут очень старые люди, из которых уже выветрилось все живое, а изо рта вылетает горьковато-удушливое прощальное дыхание.
Марьюшка не отодвинулась, она даже не сшевельнулась, не уступила и краешка своей волшебной досточки, на которой можно улетать в другие миры, и я с трудом уцепился за конец сидюльки одной ягодицей, а вторая половина тела оказалась на воле, под раскидистой сенью вяза...
«Боже мой, куда все отлетело?» – поддаваясь настроению матери, подумал я. Давно ли Марьюшка была тельной, с заревом румянца во все широкое, скуластое лицо, с тяжелым ворохом волос, которые едва продирал роговой гребень, испроточенный когда-то мастеровитым дедом на звериных ловах. Я лежу под столом на полу, покрытом тонким сеевом муки, и соображаю по мальчишьей привычке каких-нибудь кудес и проделок, чтобы убить время, а мать, будто молотобоец, лупит кулаками, выминает шмат теста, такой огромный оковалок, которым накормит целую деревню, переваливает его с боку на бок, нянчит и прихлопывает добродушно, вынимая из него леность и лишнюю истому, потом режет на ровные доли и швыряет в закопченные формы. Я знаю, что под материной рукою всегда останется, будто случайно, заскребыш из чана, ощипок от катыша, из которого мать сварагулит мне пышечку с «таком», загнет кренделек или плюшечку, посыпав ее сахарным песком. После зевластая, в пол-избы, печь заполыхает заревом, а так как обрядня обычно творилась в ночи, пока деревня спит, то языки пламени, как рыжие собаки, замечутся вдруг по углам пекарни, добывая меня из норы, и вся зоревая, будто покрытая кумачами, стряпуха застынет возле творильни, дожидаясь протопки, и уставится взглядом в чело, как горновой у мартеновской печи. И вот времени того уже нет, и мать прогорела, как березовое поленце, остался лишь живой, едва искрящийся уголек с последними уходящими струйками тепла.