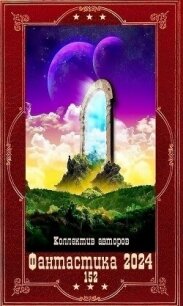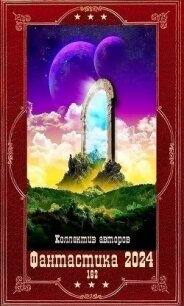Слоновья память - Лобу Антунеш Антониу (хорошие книги бесплатные полностью .txt, .fb2) 📗
— Большой, — объявил крупье, подхалимски хихикая над какой-то шуткой инспектора.
Интересно, что шутки начальства всегда смешны и к месту, лишний раз убедился врач в правоте своего брата — автора этой сентенции, которому обыкновенное угодничество представлялось чем-то непостижимым; чипер между тем облокотился на стол и потянулся к крупье, чтобы тот пересказал ему инспекторскую шутку, которую чипер выслушал с торжествующей улыбкой, поправляя воротничок:
— Так ведь, Мейрелеш?
Мейрелеш, обменивавший фишки какому-то горбуну, вскинул брови, не поднимая глаз от работы, и изобразил гримасой понимание, как делали тетушки психиатра, когда вопросы племянников заставали их за подсчетом петель в пройме свитера. А вырос ли я, удалось ли мне на самом деле вырасти, спросил себя психиатр, отвечая коленом на давление бедра женщины в пластиковом леопарде и окидывая ее медленным косым оценивающим взглядом, действительно ли я вырос или остался все тем же испуганным мальчишкой на корточках в гостиной среди гигантских взрослых, обвиняющих меня, сверлящих меня молча грозным взглядом или слегка покашливающих, прикрыв рот двумя пальцами, мол, все плохо, но что уж тут поделаешь? Дайте мне время, взмолился он этому хороводу идолов с острова Пасхи, преследующих его своей жестоко разочарованной любовью, дайте время, и я стану ровно тем, кем вы хотите, таким, как вы хотите, серьезным, собранным, последовательным, взрослым, услужливым, любезным, набитым соломой, мелочно амбициозным, зловеще веселым, сумрачно недоверчивым, бесповоротно мертвым, дайте мне время.
Время, повторил врач, мне позарез нужно время, чтобы собраться с духом, наклеить все свои вчерашние дни в альбом («who’d think to find you in a photograph, perfectly quiet in the arrested chaff» [135]), привести в порядок черты лица, глянуть в зеркало: на месте ли нос, и продолжить путь к тому дню, который начнется с твердой решимости стать победителем. Время, чтобы дождаться тебя у дверей министерства, подняться с тобой по лестнице, вставить ключ в замочную скважину и нырнуть в обнимку, не зажигая света, в кровать, смутно освещенную фосфоресцирующими стрелками электронного будильника, путаясь в немыслимом количестве одежды и в нежных всхлипах, вновь обучаясь читать по Брайлю страсти. Толстуха положила ему на руку длиннющие темно-красные ногти; на ее запястье, похожем на лапку засохшей ящерицы, красовался браслет из поддельной филиграни с огромным медальоном Девы Марии Фатимской, звенящим, ударяясь о фигу [136] из слоновой кости, и психиатр почувствовал, что его вот-вот сожрет рептилия из третичного периода, челюсти которой, измазанные кровавой помадой, явно демонстрировали, что она жаждет жестокого убийства. Глаза динозавра уставились на него с фальшивым вниманием, придаваемым обильно наложенной тушью для ресниц, под бровями, выщипанными до толщины кривой, проведенной рейсфедером, грудь вздымалась и опускалась в ритме жабр, раскачивая многочисленные ожерелья, как корабли у причала. Лапка паукообразно карабкалась по его рукаву, пощипывала его большой палец, ляжка целиком впитала его ляжку, острый каблук придавливал его ступню, отрывая ему в яростной ласке пятку. Горбун, усевшись слева, громко сосал таблетки от горла, распространяя кругом запах ингалятора для астматиков; если на секунду крепко зажмуриться, можно было бы без труда представить себе, что ты в комнате Марселя Пруста, прячешься за стопкой тетрадей с рукописью «Recherche du Temps Perdu» [137]: c’est trop bête [138], так он обычно говорил о своих писаниях, je peux pas continuer, c’est trop bête [139]. Дорогой дядюшка Пруст: обои, камин, железная кровать, твоя трудная и отважная смерть, но увы, я сидел за столом в Казино, и одиночество разъедало меня изнутри, как жгучая кислота, мысль о пустой квартире пугала, и стоило представить себе очередную ночевку на балконе, как я начинал заранее стонать от радикулита. Охваченный паникой, я двинул оставшуюся фишку на Большой: если выиграю, отправлюсь прямиком в Монти-Эшторил, залезу под простыню, буду мастурбировать и думать о тебе, пока не усну (рецепт относительного успеха); если проиграю, приглашу эту пожилую удавиху на скромную оргию, достойную ее пластикового леопарда и моих потертых джинсов и с учетом того, что подошел горестный конец трудового месяца; и непонятно было, какую из двух катастроф предпочесть: равный ужас вызывали что одиночество, что рептилия. Роскошная испанка задела его великолепной ягодицей, подушкой под более счастливую голову: эпоха тощих коров была, без сомнения, его судьбой навеки, и он смиренно приспосабливался к ней с безропотностью кроткого быдла: какая-нибудь скамейка в парке терпеливо дожидалась его меланхолически праздной старости, и вполне возможно, что по пятницам самый младший из братьев будет кормить его у себя дома ужином, в качестве гарнира к жареному мясу подавая советы и укоризны:
— Мама так и знала, что ты не наберешься ума.
И вполне возможно, что он не только никогда не наберется ума, но (что еще печальнее) ему не суждено то особое счастье, которое обычно обусловлено отсутствием этого странного атрибута, этого балласта, без которого легко возносишься к радостным вершинам веселого безумия, без тоски, без забот, без планов, когда отрочество становится состоянием души, призванием или судьбой.
— Мама так и знала.
Мама всегда все так и знала. И мне казалось, что инспектор Казино постепенно перенимает ее пророческий дар, веки его тяжелеют от огорчения, лоб хмурится, рука с зажженной сигаретой чертит в воздухе эллипсы, как бы снимая с себя этим жестом всякую ответственность:
— Чего от этого мальчика можно ожидать?
Ничего, припечатал он вслух со злостью, испугавшей горбуна, и в этот самый момент, крупье поставил стакан на стол, поднял глаза, оглядел присутствующих, подтянул галстук и провозгласил:
— Малый, — вынося, сам того не зная, окончательный приговор.

— Авы уверены, что вы доктор? — спросила рептилия, недоверчиво оглядывая его изношенные джинсы, потертую футболку, растрепанные волосы. Они вдвоем сидели в маленькой машине психиатра («Не знаю, втиснусь ли я в эту штуку») рядом с внушительным туристским автобусом, принимавшим обратно на борт груз из старушек-американок в вечерних платьях, с очками на серебряных цепочках, висящими на шее, как соски у младенцев, сопровождаемых блондинами, похожими на Хемингуэя с последних портретов.