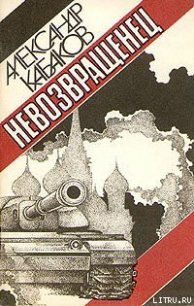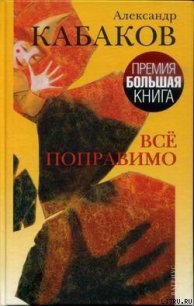Последний герой - Кабаков Александр Абрамович (книги серия книги читать бесплатно полностью .txt) 📗
Где мы, уже отчаянно спросила она, куда ты меня ведешь, я веселый, легкий человек, куда ты нас тянешь? Это Ад, ответил я, добро пожаловать в Ад, любимая, однажды я видел такое приглашение в теленовостях, но ничего не бойся, мы будем в Аду вдвоем, Ад — единственное счастье, которое доступно двоим, в Раю можно быть поодиночке, но еще когда ты ждала меня, и скучала, и расставалась со своей предыдущей жизнью, и смотрела, как барахтаюсь я, расставаясь со своей, и жалела меня, сочувствовала, уже тогда ты подписала контракт на экспедицию в Ад, из такого путешествия можно не вернуться, если зайдешь слишком далеко, а я не умею останавливаться, но главное — идти вдвоем. Что это там, что это за передача, спросила она, уже улыбаясь, глаза ее еще отсвечивали влагой, но она уже почти успокоилась, скорчила обычную свою гримасу, детскую и кокетливо-женскую одновременно. А это Василий Доронин пел из «Свадьбы с приданым», а потом был обзор газет, сказал я, сорок седьмой год.
Не хочу, сказала она, не хочу, не хочу. Куда же ты хочешь, спросил я, хочешь в завтрашний день, в двадцать четвертое сентября две тысячи девяносто шестого года? Нет, нет, сказала она, это тоже Ад, не хочу, неужели это обязательно? Да, сказал я, ты права, здесь тоже Ад, они сами его устроили, они сами отправили себя на свалку истории, сами победили себя, им не понадобились ни тот, ни другой, ни австрияк, ни грузин — они обошлись социальным равенством, правами женщин и меньшинств, сытостью и скукой, лицемерием и общественными интересами, они построили самый безнадежный Ад тоски, вокруг которого пылает Ад жестокости. С этим Адом нам и предстоит иметь дело… Я знаю, что тебе нужно, сказал я, и снова покрутил настройку, зеленый глазок жмурился и расширялся по-кошачьи, и возникала музыка.
«This never happened before…» — пропел Нат Кинг Кол, — «…but never, never again…» Рухнул, зазвенел, взлетел за облака оркестр, и Синатра включился в нашу борьбу с дьяволом: «I want to see your face every kind of life… you spend it all with me…»
Я люблю тебя, наконец сказала она, и совсем не обязательно отправляться в какой-нибудь ад для любви, я не хочу знать все это.
Тут заскрипела лестница, раздался деликатный кашель, и Гриша, пробирающийся на кухню, забормотал: «О, вейз мир, почему пожилой человек должен так мучиться, здесь невозможно достать не то что компот, чтобы попить от изжоги, здесь уже вода как счастье, за что этот цорес на мою голову…»
Нащупав кнопку, я включил лампу у изголовья. Гриша стоял у двери в кухню, и вид его был восхитителен — на нем был полный наряд сельского джентльмена для прохладной осенней ночи: фланелевые брюки, пушистый верблюжий пуловер, шелковая косынка на шее под свежей голубой рубашкой, рыжие короткие кудри были безукоризненно разделены косым пробором.
— Простите старика, — сказал он, слегка щуря от света голубые, как бы со слезой, глаза, — бессонница… Не составите ли компанию?
С этими словами он достал из-за спины хрустальный флакон с ржаво-желтой жидкостью, а в другой руке у него оказались вложенные стопкой один в другой три больших стакана с толстыми, тяжелыми донышками.
— Очень и очень рекомендую, — продолжал Гриша, — сорт весьма приличный, «Glenlivet» двенадцатилетний. Что до меня, то предпочитаю pure malt безо льда, а уж тем более без содовой и прочих американских пошлостей…
— Отвернитесь, Григорий Исаакович, — сказала она, и очаровательный старик суетливо кинулся в угол, стал лицом к стене, а она, в одну секунду оказавшись в кружевном пеньюаре и накинув на плечи сливочного цвета шелковую шаль, подала мне стеганый лиловый халат, фуляр, чтобы прикрыть шею, и меховые домашние туфли. Мы с Гришей уселись в креслах друг против друга, она осталась в постели, села, засунув за спину подушки и прикрывшись до пояса пледом. Я подал ей бокал.
— Григорий Исаакович, вы не представляете, как вовремя проснулись, — она посмотрела на него так, так хлопнула ресницами, так классически сыграла глазами, так проворковала, что бедный эсквайр едва не выронил трубку, которую было принялся раскуривать. — Миша тут наговорил таких ужасов, да еще по радио передавали всякий бред… Так хотелось выпить!
— Отчего ж бред, — вежливо возразил Гриша, — очень милая была песенка. Он, конечное дело, гангстер, и все такое, но поет вполне чудесно. «I want to see your face…» Очаровательно! Белый пустой зал, оркестр под утро сморило, и только негритенок-уборщик все ставит и ставит одну и ту же пластинку, танцуя со шваброй и не обращая внимания на пару за столиком в углу… Очаровательно…
— Как вы думаете, Григорий Исаакович, — перебил я его, — извините, что о невеселом, как полагаете, куда направлялась эта колонна?
— Скорее всего, куда-нибудь на Волгу, — задумчиво глядя на мечущийся у наших ног огонь в настежь распахнутом зеве печи, ответил он после секундной паузы. — Там мордва, мари… Вероятно, очередное усмирение. Да можно хотя бы вот радио послушать, только не скажут ведь ничего… Маньяк дарит женщинам цветы, иск жены к мужу за преждевременный, простите, милая, оргазм, наводнение в Чехии, голод в Канаде… Других новостей у них не бывает.
— Да мой приемник вряд ли это ловит, — заметил я, — он на их волнах не работает.
— Да, прибор достойный, — согласился Гриша, — одиннадцать ламп… А вот у меня к вам, в свою очередь, вопрос, друг мой: может вы, молодой своею головой, сообразите, как у них получается, что год две тысячи девяносто шестой, а ежели судить по всей их жизни, по идеям модным, по автомобилям, по всей технике, то выходит лет на сто меньше? Опять же, к выборам они готовятся…
— Календарь, Григорий Исаакович, — я встал, прикрыл лампу платком: она задремала, откинувшись на подушки, а свет падал ей прямо в лицо. Пустой бокал я осторожно взял из ее слабых пальцев… — Они просто приняли такой календарь. Референдумом. Они провели референдум и сделали дырку в истории, и очень этим гордятся. С тех пор здесь и сменяются у власти две партии, ново-временные демократы и национал-республиканские календаристы. Только президент не меняется, просто по результатам выборов переходит из партии в партию.
— Да-с, забавно, — тихо вздохнул Гриша, — о таком даже мне не говорили, когда посылали сюда…
Мы сидели у огня, понемногу приканчивая литровый флакон великолепного скотча, а вокруг нашего дома, в котором мирно беседовали два элегантных и корректных господина и спала прекрасная дама, вокруг этого пространства мужества и женственности, приятельства и любви, во тьме лежала страна — застроенная удобными и красивыми особняками и деловыми небоскребами, покрытая широкими и зеркально гладкими шоссе, стрижеными лужайками и чистыми лесами, полная еды, одежды и машин. В этой стране мужчина, прямо взглянувший на красивую женщину, подлежал суду, который чаще всего приговаривал его к смерти в вакуумной камере; в этой стране не вегетарианцев не впускали в рестораны, а за срубленное дерево подвергали изгнанию; для людей белой расы, физически полноценных и гетеросексуальных, была введена процентная норма при поступлении в университеты; все религиозные праздники отменены, поскольку задевали чувства атеистов, хотя атеистическая пропаганда запрещалась, как задевающая чувства верующих; любые способы регулирования рождаемости осуждались, но секс существовал только «безопасный», а рождение более трех детей в одной семье преследовалось законом, поскольку нарушало равновесие между человеком и средой и вело к истощению природы; в этой стране самым строгим образом защищалась свобода печати, но компьютер в ЦУОМе, Центре Управления Общественным Мнением, неукоснительно контролировал все источники информации, отсекая любые сведения о том, что происходило на границах и окраинах державы.
Потому что там горели заливаемые сгущенным бензином города и деревни, там ракеты разносили в пыль больницы и школы, танки шли по ставшим на их пути людям, там тысячами гибли солдаты официально не воюющей армии и офицеры давно расформированной и проклятой тайной полиции, там был внешний круг Ада, неведомый для внутренних восьми: для круга скуки, круга лицемерия, круга тупости, круга сытости, круга безнадежности, круга лжи, круга одинаковости и круга одиночества.