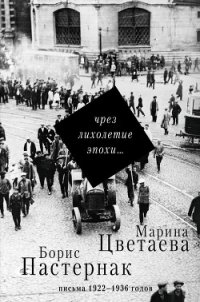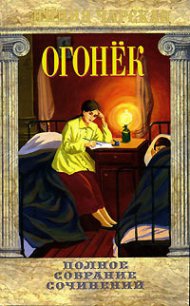Не плакать - Сальвер Лидия (читать книги онлайн бесплатно без сокращение бесплатно TXT) 📗
Этот человек производил на нее впечатление. Как производил он впечатление и на всех жителей деревни.
Они находили его оригиналом, чудаком, даже сумасбродом, но, в сущности, эти его черты им нравились. Со снисходительной улыбкой взирали они на то, что считали блажью аристократа: его господскую одежду (ибо он не принял стиля «работяги», как никогда модного в ту пору), кожаные перчатки, черную фетровую шляпу с его инициалами ХБО на ленте, непостижимую любовь к книгам (говорили, будто у него их больше семи тысяч! Да как это все умещается в его голове?) и непомерные знания (говорили, будто он владел тремя языками, — четырьмя, если считать каталанский! — знал названия десятка планет и латинское слово, означающее турецкий горох, Cicer arietinum для несведущих).
Бонвиван, непринужденный и обаятельный, не такой богатый, каким хотел казаться, чуточку церемонно вежливый со всеми, включая жену, пренебрегающий обрядовой стороной религии, на которой была помешана его сестра донья Пура, всегда в ровном настроении и нрава скорее веселого, если только дело не касалось его сына, с которым он хлебнул горького (говорит моя мать), был он приветлив ко всем односельчанам, при случае мог с ними и позубоскалить, осведомлялся об урожае оливок и орехов, для каждого находил ободряющее слово и знал фамилии, имена и возраст детей всех работавших на него крестьян, поэтому те говорили, что дон Хайме хоть и образованный, а не заносится, человек свойский.
Со своей сестрой доньей Пурой он с начала войны обращался с терпеливой снисходительностью, как обращаются с трудными подростками, ища оправдания их выходкам. Но иногда, пребывая в шутливом расположении духа, говорил ей, посмеиваясь: Услышь тебя красные, дадут хорошего пинка в зад, а то и изнасилуют, с них станется. Уязвленная донья Пура отворачивалась, не проронив ни слова, и вся ее спина содрогалась от сдерживаемого негодования, или презрительно пожимала плечами, воодушевленная информацией, прочитанной утром в газете: броненосец «Нюрнберг» под флагом со свастикой вошел сегодня в порт Пальмы, наконец-то хорошая новость, поднявшая ей настроение.
Землями своими он практически не занимался, слепо доверяя управляющему Рикардо, которого Диего называл холуем. Этот молодой человек с костистым лицом и бегающими глазами, нанятый еще подростком, выказывавший ему благоговейную преданность (раболепство, говорил Диего), заботился о полях дона Хайме с такой же любовью и гордостью, как если бы они были его собственными, и безропотно выполнял все поручения хозяина, чье доверие ему втайне льстило. Молодой человек был, впрочем, столь же предан донье Пуре и носил ради ее удобства к воскресной мессе деревянную скамеечку, на которую она ставила ноги, обязанность унизительная в буквальном, этимологическом смысле этого слова (склоняться-то приходилось низко, до земли), за которую он снискал беспощадное презрение Хосе и Хуана и весьма банальную кличку Эль Перрито — собачонка.
Дон Хайме был голова, говорит мне моя мать.
Он часами просиживал в библиотеке, и в глазах Монсе, никогда не видевшей, чтобы в ее окружении кто-то читал книги просто ради удовольствия, занятие это окружало его ореолом такой значимости, что она при нем цепенела.
Говорил он на castillan castizo[146], то есть идеально чистом наречии и, хоть мог иной раз ввернуть крепкое словцо, даже брань его была благозвучна. И Монсе находила в его легкой, яркой, остроумной речи ту же роскошь дома и вещей, так ее впечатлявшую, и бесспорное доказательство его незаурядного ума. И, пытаясь дорасти, если не до него, то хотя бы до уровня прилежной ученицы (прыгнуть выше головы и перднуть выше задницы, подытоживает моя мать, не упустив, разумеется, такого подходящего случая ругнуться), она обращалась к нему красивыми, по ее мнению, фразами, замысловатыми и жеманными, произнося их чопорным тоном своей школьной учительницы, сестры Марии-Кармен, которая говорила одно местечко вместо уборной, отправился на небеса вместо помер, не гневи Господа вместо заткнись и еще немало деликатных и весьма католических эвфемизмов.
Особенно скверно чувствовала себя Монсе в присутствии доньи Пуры, которая скорбно кривила рот всякий раз, поймав ее на незнании хороших манер, то есть постоянно. Мать помнит, как однажды, когда она завернула пару старой обуви в номер «Аксьон Эспаньола» (моя мать: un periydico para limpiarse el culo[147]), донья Пура, для которой эта газета была святыней, пожаловалась брату: Бедняжка, нет у нее понятия истинных ценностей! С ее-то происхождением!
И хотя донья Пура не раз повторяла ей с чисто христианской слащавостью в голосе, которая была злее любой брани: Вы здесь у себя дома, девочка моя, Монсе чувствовала себя при ней настолько не дома, что ей частенько хотелось убраться на все четыре стороны. Но куда? Здесь ей было холодно. Убраться некуда. Попалась я, канкан захлопнулся, говорит мне моя мать. Капкан? — переспрашиваю я. Канкан, повторяет мать.
А между тем донья Пура была достойна всяческих похвал: она приняла в свой дом эту бедняжку, деревенскую девчонку без гроша в кармане, которая ела хлеб, натертый чесноком! облизывала нож, разрезав им мясо! не умела даже играть в бридж! вообще ничего не умела, только колоть орехи да доить овец! да еще и брат ее возомнил себя кем-то вроде современного Антихриста, возглавив кучку вооруженных мужланов, pobre Espaca[148]!
Порой она даже снисходила до беседы с ней, невзирая на свои мигрени. О всякой ерунде, конечно, о чем с ней можно говорить, с бедняжкой? Но когда речь шла о милосердии, донья Пура за ценой не стояла. Из любви к Христу она была готова на любые жертвы. К тому же ее успокаивала мысль, что гражданский брак, связавший эту бедную крестьянку с ее племянником, гроша ломаного не стоит, и ей придется терпеть ее присутствие лишь до неминуемого, вне всякого сомнения, дня их развода.
Потом, постепенно, в силу бог весть какой загадки романтической души, донья Пура прониклась живым интересом к противоестественной связи Диего с этой босячкой, узнавая, казалось ей, в этой связи сентиментальные перипетии из La Guapa y el Aventurero[149], романа, в котором любовь сметала социальные преграды, всем романам романа, увлекательного, захватывающего и вдобавок поучительного, в общем, так добиравшегося тайными путями до самого ее сердца, что ее аж слеза прошибала, когда она читала его каждый вечер на сон грядущий, чередуя с Евангелием и «Аксьон Эспаньола».
С тех пор она задалась целью совершить богоугодное дело для этой девушки, славной, но грубоватой и неотесанной: привить ей если не аристократические, то хотя бы просто приличные манеры и дать начатки хорошего воспитания — воспитания в ее понимании, чтобы бедняжка, если и не доросла бы до своего мужа, то хоть на пару этажей поднялась.
Но хоть эта благородная миссия и занимала ее теперь отчасти, никуда не делись бесчисленные недуги, обуревавшие ее неутоленную плоть. И когда Монсе осведомлялась, что у нее сегодня болит, тоном, каким обращаются к людям, требующим к себе уважения, не испытывая к ним, однако, подлинной симпатии, недужная донья Пура с видом умирающей многозначительно отвечала голосом, исполненным жутковатой кротости: Не будем об этом, прижимая ко лбу смоченный в уксусе платок, дабы умерить боль, сверлившую ее мозжечок.
Таким образом донья Пура давала понять, сколь тяжко ее недомогание и как она старается не обременять окружающих. Но дабы никто не забывал, что она, несчастная, страдает молча, через равные промежутки времени она испускала вздох, вырывавшийся, казалось, из самых глубин ее существа, после чего на виду у всех открывала бутылочку с укрепляющим сиропом (их у нее была целая коллекция) и глотала с гримасой отвращения столовую ложу снадобья.
Монсе тогда считала своим долгом сочувственно покивать, что от нее и требовалось, крича про себя благим матом: Прекратите! Прекратите, не то я вас в порошок сотру!
Окажи мне заслугу, вдруг просит меня моя мать, исчезни сироп от кашля, что поместен на холодильнике, а? Он так скверно памятует мне донью Пуру.