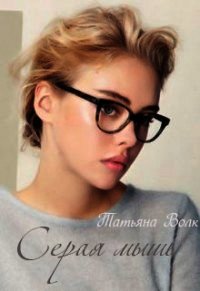Школа насилия - Ниман Норберт (читать хорошую книгу .txt) 📗
Сам не знаю, что я при этом думал, во всяком случае я нашел ее с ходу. Действительно в гардеробе, в этом всегда сумрачном, душном сарае на втором этаже, где действительно обжималось несколько парочек. Никакого Кевина нет и в помине. Значит, Надя без спутника. Она прячет лицо в ладонях. Я молча подсаживаюсь к ней.
Как бы я реагировал, застань я Надю с Кевином, это ты хочешь знать? Боже правый, да что мне за дело, что мне за дело до Кевина и его отношений с Надей. Она одна, и я рад, что это так. Рядом с ней, страницами вниз, лежит толстая книжка карманного формата с загнутыми углами и наполовину оборванной серебряной обложкой, я поднимаю ее, Достоевский, «Преступление и наказание». «Не хочу, чтобы вы принимали меня за какое-то пугало, тем паче что имею к вам искреннюю склонность, верите вы мне или нет», — читаю я. И кладу книгу обратно. Надя выпрямляется. Ее глаза и в самом деле полны слез, щеки распухли, а ей и это идет, какая хорошенькая, — сразу приходит непрошеная мысль, — подавлена, несчастна, и все равно такая милая.
Как у меня дела в школе, как мои занятия, спрашивает она наконец дрожащим голосом и улыбается. Все еще так же ужасно? Нет-нет, отвечаю я вполголоса, все в порядке. Только два младших класса, немного девятнадцатого века и средневековье в трех старших. Реставрация, крестовые походы, Бисмарк. Зато в данный момент кое-кто из десятого класса проходит Бюхнера, а? Про нервы в черепе, ха-ха. Видишь, в этом году я изворачиваюсь как могу, чтобы свести нагрузку к минимуму. И это я говорю ей, то есть что поклялся избегать всего, что для меня слишком тяжело, буквально это я ей и говорю. И что мне это даже удается. И что, например, для драмкружка у меня вряд ли найдется время, это мне на пользу. Помогает немного снять напряжение, понимаешь, Надя, говорю я, в общем-то я совсем успокоился. Это не означает, что вы меня не интересуете, напротив. Но одно дело интересоваться, а другое — биться головой о стену, это безумно напрягает, со временем доводит до изнеможения. И утомляет, конечно, добавляю я, ясное дело, ведь это так бессмысленно.
И как раз на этом месте, признаю без всяких колебаний, Надя вдруг разражается, так сказать, безудержным потоком слез, на это в самом деле страшно смотреть. Сначала она сидит неподвижно. Руки безвольно повисают. А глаза, из которых теперь по щекам, губам, подбородку непрерывно двумя ручьями текут слезы, чтобы собраться во впадине между ключицами, прежде чем убежать под платье и просочиться между грудями, эти глаза все время широко открыты, устремлены в какую-то точку на мне. Это длится вечность, и я, конечно, становлюсь все беспомощней. Плохо дело. Она уже плачет навзрыд. Так душераздирающе, из такой глубины, буквально из таких кишок и печенок, что сразу снова начинает задыхаться, и все ее нежное тело — поверь, здесь это действительно подходящее слово, — трепещет. И я, черт, я тоже выдавливаю из себя еле слышно «Идем, Надя, полно, Надя», и вот, значит, я — а что мне остается? — делаю этот крохотный жест, пожалуй, даже намек, что мог бы чисто теоретически обнять ее, и больше ничего. И вот она уже лежит в моих объятиях, положив голову на грудь, почти усевшись мне на колени.
И я укачиваю ее, это бедное создание, сотрясаемое болью. Болью, которая успела стать настолько сильной, что разрушила все пороги торможения. Ибо Надины пальцы ощупывают теперь мое лицо, неловко двигаются по глазам, носу, рту, даже ушам, снова и снова. А я в это время, в известной мере инстинктивно, готов баюкать ее, лишь бы успокоить. В самом деле, она как малыш, который плачет среди ночи, когда ему снится страшный сон или болит живот. Настолько мало я понимаю, в чем, собственно, состоит эта боль. Что общего у нее со мной. Со мной, Боже правый! И пока я пытаюсь ее утешить, все более превращаясь в какую-то заботливую мамашу, она бормочет невнятные обрывки, бессвязную ерунду, что-то вроде: я виновата, непростительно, мне так жаль, и тому подобное. Пока не раздается гонг, извещающий о конце перемены.
«Ты справишься», — подбадриваю я ее, когда она встает. Мы смотрим друг на друга. Надя действительно берет себя в руки. Вытирает слезы со щек, с шеи, даже оборачивается ко мне с вымученной улыбкой, прежде чем уйти по направлению к классам.
С тех пор она больше не приходила в школу. Освобождена от занятий по состоянию здоровья, я узнавал.
А я терзаюсь вопросом: почему? Почему я делаю такие вещи. Она сидит, совершенно невменяемая, не важно по каким причинам, а я не нахожу ничего лучшего, чем приставать к ней со своими смешными проблемами. Обременять ее. Даже косвенно упрекать. Если уж говорить о каких-то невидимых стенах между нами, то в конце концов возвожу их я сам, в собственной голове. Мне бы надо принимать всю эту проклятую школу с ее сплошь банальными и сплошь загадочными учениками такими, как они есть. Ну и что, если я почти ничего в этом не понимаю? Как будто кто-то когда-то лучше понимал чужой мир! А тот, кто понял хоть фрагмент собственного мира, был бы абсолютным исключением. Кто скажет, почему я вожусь с этим непотребством? Почему просто не принять их и столь чуждую мне жизнь, которую они ведут? Почему, например, неожиданно найдя Надю в таком состоянии, не побеседовать с ней, соблюдая благожелательную, участливую, но непременную дистанцию? Как учитель, как человек, к которому она может обратиться? Который ее поддержит? А не оттолкнет, обрекая на новое, еще большее несчастье?
Чего, собственно, я хочу от Нади? От них всех? И вообще, хочу я от них чего-то?
По крайней мере я не хочу, чтобы Надя страдала из-за меня, уж этого никто не поставит мне в вину. А может, у меня очередная навязчивая идея? Почему из-за меня? Откуда я взял? Что это? Тщеславие? Сумасшествие? Паранойя? Она страдает. Точка. Из-за себя, из-за несчастной любви, мало ли из-за чего!
По крайней мере я хочу быть уверен, что она страдает не из-за меня. И поэтому несколько дней подряд пытался выяснить, как у нее дела, что с ней происходит. С ней и со всей компанией. Вот и все.
Или это отговорка, которую я сочинил про запас, прежде чем наконец решился спросить кого-то из учеников. Карин Кирш и Амелию Кляйнкнехт, кого же еще. Они хорошо знают Надю, они самые нормальные из всех. С ними я меньше всего опасаюсь, что мой интерес будет ложно истолкован. Кроме того, с девочками легче говорить о таких вещах, верно ведь, о таких сложных и обезоруживающих вещах, как чувства, отношения и так далее. Кроме того, позавчера, когда я заговорил с ними, со стороны было похоже, будто встретил их случайно. Напротив школы, наискосок от школьных ворот, перед входом в кафе «Бреннер», где ученики старших классов убивают свободные часы. В тот день я совершенно случайно проходил мимо и столкнулся с девицами по дороге в метро. Совершенно случайно они обе, завидев меня издалека, остановились на тротуаре перед кафе и начали точить лясы.
Обе классно смотрелись на фоне огромных тонированных окон кафе «Бреннер». Cool, стойка свободная, губы накрашены, курят, ясное дело. И в самом деле, чувствуешь себя как-то привлекательней, даже немного секси, когда тебя приветствуют на улице столь прекрасные юные девы, а? Карин носит короткие кремовые шорты, подбирает розовый лак для педикюра в тон розовым босоножкам на платформе. Амелия в темно-зеленых бархатных брюках и красной, трепещущей на ветру блузе из индийского шелка с маленькими зеркальными бляшками. Я подозреваю, что этот роскошный прикид она раскопала в сундуках на чердаке, где хранятся старые шмотки ее матери. Словно мимоходом обменявшись насмешливым «Как жизнь?» мы вступаем в светскую беседу, напрочь забыл о чем, представь себе. И совсем случайно разговор касается Нади. Да-да, болеет, странно, понятия не имеем, и так далее — несколько тактов бодрого вступления. И понятно, я, как человек импульсивный, приглашаю их на чашку «капучино» или порцию мороженого. Или чего хотите, добавляю я, после того как мы уселись и нелюбезная официантка в этом, если присмотреться, супермещанском кафе «Бреннер» принесла меню. Итак, Амелия заказывает «санрайз», мексиканский коктейль с текилой, или что-то такое, я в этом не разбираюсь, а Карин какой-то кубинский коктейль.