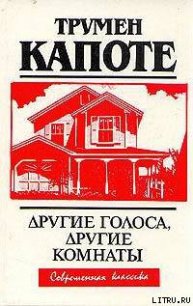Другие голоса, другие комнаты. Летний круиз - Капоте Трумен (полная версия книги TXT, FB2) 📗
— Черт! — выдохнула она. — Ух черт.
…и от ее прикосновения силы вытекли из Джоула: ручей застыл, превратился в горизонтальную клетку, и ноги перестали держать, словно балка была зыбучим песком. Откуда у змеи глаза мистера Сансома?
— Руби ее, — приказала Айдабела. — Саблей руби.
Вот как все было: они шли в гостиницу «Морок», да, в гостиницу «Морок», где плавал под водой мужчина с рубиновым перстнем, да, и Рандольф листал свой альманах и писал письма в Гонконг, в Порт-оф-Спейн, а бедный Джизус умер, убита кошкой Тоби (нет, Тоби была младенцем), гнездом печной ласточки, упавшим в огонь. И Зу — она уже в Вашингтоне? И там — снег? И почему так пристально смотрит на него мистер Сансом? Это очень, очень невежливо (как сказала бы Эллен), до крайности невежливо со стороны мистера Сансома — никогда не закрывать глаза.
Змея развертывалась с мудреной грацией, вытягивалась к ним, гоня по спине волну, и Айдабела кричала: «Руби, руби!» — а Джоул по-прежнему был всецело поглощен взглядом мистера Сансома.
Айдабела развернула его кругом, отодвинула за спину и выхватила у него саблю.
— Бабуська, гадина, — тыча саблей, дразнила она змею.
Та будто опешила на секунду; потом, с неуловимой для глаза быстротой, напряглась, как натянутая до звона проволока, откинулась назад и сделала выпад.
— Гадина! — Айдабела, зажмурясь, взмахнула саблей, как косой. Сброшенная в пустоту змея перевернулась, ушла под воду, всплыла на поверхность; скрюченную, белым брюхом кверху, течение унесло ее, словно вырванный корень лилии.
Нет, — сказал Джоул немного позже, когда победоносная и спокойная Айдабела уговаривала его перейти на ту сторону. — Нет, — ибо зачем было теперь искать отшельника? С опасностью они уже встретились, и амулет ему был не нужен.
11
За ужином Эйми объявила:
— Сегодня у меня день рождения. Да, день рождения — и хоть бы кто вспомнил. Будь с нами Анджела Ли, я испекла бы огромный пирог с сюрпризом в каждом ломтике: золотыми колечками, жемчужинкой для моих жемчужных бус, серебряными пряжечками для башмаков… ах, подумать только!
— Поздравляю вас, — сказал Джоул, хотя здоровья не так уж ей и желал: когда он вернулся домой, она бросилась навстречу с определенным намерением — во всяком случае, так она заявила — разбить о его голову зонтик, ввиду чего Рандольф распахнул свою дверь и предупредил ее вполне серьезно, что если она только дотронется когда-нибудь до мальчика, он свернет ей к чертям шею.
Рандольф продолжал глодать свиную голяшку, а Эйми, полностью игнорируя Джоула, сердито смотрела на него, и губы у нее дрожали, а брови всползали все выше и выше.
— Ешь, ешь себе, разжирей, как свинья, — сказала она и рукой в перчатке стукнула по столу: стук был как от деревяшки, и потревоженный старик будильник принялся трезвонить; все сидели без движения, пока он жалобно не иссяк.
Затем морщины на лице у Эйми прорисовались рельефнее вен, и, до нелепости горько всхлипнув, она разразилась слезами и заикала.
— Глупое животное, — всхлипывая, сказала она. — Кто еще тебе когда-нибудь помогал? Анджела Ли отправила бы тебя на виселицу! А я — жизнь за тебя положила. — И, перемежая икоту извинениями, икнула раз двенадцать подряд. — Вот что скажу тебе, Рандольф: моя бы воля, ни на секунду бы здесь не осталась, уборщицей пошла бы к каким угодно потным неграм; не думай, заработать себе на пропитание я всегда сумею — в любом городе Америки матери будут присылать ко мне детей, и мы будем организовывать игры: жмурки, шарады — и я буду брать по десять центов с ребенка. Без куска хлеба не останусь. Зависеть от тебя мне нет нужды; будь у меня хоть капля здравого смысла, давно бы села и написала письмо в полицию.
Рандольф положил нож на вилку и промокнул губы рукавом кимоно.
— Извини, дорогая, — сказал он, — боюсь, что не уследил за твоей мыслью: в чем именно ты усматриваешь мою вину?
Его двоюродная сестра покачала головой и глубоко, прерывисто вздохнула; слезы перестали капать, икота прекратилась, и на лице ее внезапно возникла застенчивая улыбка.
— Сегодня день моего рождения, — чуть слышно прошелестела она.
— До чего странно. Джоул, тебе не кажется, что день исключительно теплый для января?
Джоул настроил слух на то, что должно было зазвучать за их голосами: три свистка и крик совы — сигнал Айдабелы. От нетерпения ему казалось, что выдохшийся будильник остановил и само время.
— Да-да, для января, — ведь ты, моя милая, родилась (если верить семейной библии, хотя верить ей никак нельзя — уж больно много свадеб там датировано по ошибке девятью месяцами раньше) января первого числа, вместе с Новым годом.
Эйми робко, по-черепашьи втянула голову в плечи и снова начала икать, но теперь не возмущенно, а горестно.
— Ну-у, Рандольф… Рандольф, у меня праздничное настроение.
— Тогда — винца, — сказал он. — И песню на пианоле; да загляни еще в комод — наверняка найдешь там старые собачьи галеты, кишащие маленькими серебряными червячками.
С лампами они перешли в гостиную, а Джоул, посланный наверх за вином, быстро зашел в комнату Рандольфа и открыл окно. Внизу огненные, только что распустившиеся розы горели, как глаза, в августовских сумерках; надушенный ими воздух казался цветным. Он свистнул, шепотом позвал: «Айдабела, Айдабела», — и она появилась с Генри из-за покосившихся колонн. «Джоул», — произнесла она неуверенно, и позади нее ночь перчаткой наделась на каменную пятерню, будто согнувшуюся в потемках, чтобы захватить девочку; но Айдабела ускользнула от каменной хватки: откликнувшись на зов Джоула, она сразу подбежала к окну.
— Ты готов? — Она сплела ошейник из белых роз для Генри, и у нее самой в волосах криво торчала роза.
Айдабела, — подумал он, — какая ты красивая.
— Иди к почтовому ящику. Там встретимся.
Без огня ходить по дому было уже темно. Он зажег свечу на столе Рандольфа, подошел к шкафу и отыскал непочатую бутылку хереса. Когда он нагнулся задуть свечу, в глаза ему бросился зеленый листок почтовой бумаги и на нем, знакомым изящным почерком, начало: «Дорогой мой Пепе». Так вот кто сочинял письма к Эллен — и как же он не сообразил, что мистер Сансом не может написать ни слова? В темном коридоре свет лампы обозначил контуром дверь мистера Сансома, которую на глазах у Джоула медленно раскрывал сквозняк; он увидел комнату будто через перевернутый бинокль, так схожа с миниатюрой была она в своей желтой четкости: и свесившаяся с кровати рука с обручальным кольцом, и пейзажи Венеции на матовом шаре лампы, спроецировавшей на стены и на одеяло их бледные цвета, и в зеркале метание — этих глаз, улыбки. Джоул вошел на цыпочках и опустился на колени возле кровати. Внизу разразилась грубой, ярмарочной музыкой пианола — но почему-то не нарушила таинственности и тишины этого мгновения. Он ласково поднял руку мистера Сансома, приложил к своей щеке и держал так, покуда между ними не пошло тепло; он поцеловал сухие пальцы и обручальное кольцо из золота, которое должно было бы охватывать их двоих.
— Я ухожу, папа, — сказал он, и получилось это так, что он как бы впервые признал их родство. Он медленно встал, взял в ладони лицо мистера Сансома и прижался губами к его губам. — Мой единственный папа, — прошептал он, и повернулся, и пошел вниз, и на ходу повторил эти слова еще раз — но теперь уже самому себе.
Он пристроил бутылку вина под вешалкой в зале и, укрывшись за занавеской, заглянул в гостиную; Эйми и Рандольф не слышали, как он спустился по лестнице: Эйми сидела на табуретке у пианолы, усердно обмахивалась веером и без устали притопывала ногой, а Рандольф, совершенно разомлев от скуки, созерцал арку, где должен был появиться Джоул. Но Джоула уже не было; он бежал — к почтовому ящику, к Айдабеле, на волю. Дорога стелилась под него рекой, словно фейерверочная ракета, воспламененная вдруг блеснувшей свободой, мчала его за собой в хвосте искр-звезд.
— Бежим! — крикнул он Айдабеле, потому что немыслимо было остановиться, пока Лендинг не скроется из виду навеки, — и Айдабела неслась перед ним, и тугой ветер сметал назад ее волосы; когда дорога прянула на холм, Айдабела будто полезла в небо по прислоненной к луне стремянке.