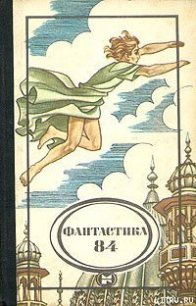Принц Вест-Эндский - Ислер Алан (читать книги без сокращений txt) 📗
Знал ли я? Незадолго до того овдовев, я отверг ее авансы. С тех пор наши отношения, если это слово здесь годится, были… какими? прохладными? неприязненными? Так в этом дело? Отвергнутая женщина? Кто же мог подумать, что мое пренебрежение будет иметь столь пагубные последствия? Понятно, ничего этого я не мог объяснить моему бедному другу.
— Я ничего не знаю. Может быть, когда она вернется…
— Она никогда не вернется.
— Ну ладно — я, но за что она не любит Липшица?
— А кто любит Липшица?
— Ох, Бенно, мне так жаль.
— С этим все; кончено и забыто; и к лучшему.
Что можно сказать при виде такого благородства, такого величия души? Взгляните на Гамбургера, разрывающегося между любовью и дружбой, низвергнутого с вершин блаженства в пучину горя, Геркулеса на Распутье, и, подобно Геркулесу, избравшего героический путь!
Красный Карлик утверждает, что он невиновен.
Мы с Гамбургером настигли его в два часа, в начале послеполуденного отдыха, когда шумный механизм «Эммы Лазарус» тихо жужжит на холостых оборотах. Он приоткрыл дверь и подозрительно выглянул в щелку. Опознав нас, распахнул дверь. «Заходите, товарищи, заходите!» Мы подняли его с постели. На нем были только просторные трусы, условно белые в синий горошек. До чего же волосат этот малыш! Занавески были задернуты; постель смята. Комната, как ему и подобает, — спартанская: железная кровать, маленький столик, жесткие стулья; на стенах — гигантские фотографии Маркса, Ленина, Че Геварры, Мэрилин Монро. «Садитесь, садитесь», — сказал он. Единственным интересным предметом в комнате был медный самовар, стоявший на маленьком комоде. Красный Карлик исполнил коротенькую жигу.
— Итак, товарищи, мы выиграли революцию, не нанеся ни одного удара.
— Липшиц говорит, что его столкнули, — сказал Гамбургер. ' — Типичная сионистская утка. Сперва они делают себе бобо, а потом ищут виноватых.
— Перелом бедра — это больше чем бобо, — сказал я.
— Лучше перелом бедра, чем перелом шеи.
— Он может умереть, Поляков, — сказал Гамбургер.
Красный Карлик пожал плечами и развел ладони на манер микеланджеловс-кой «Пьеты».
— А мы? — сказал он.
Допрос развивался не так, как мы ожидали. Я попробовал зайти с другой стороны.
— Вы на днях сказали: не надо, чтобы нас видели вместе. Что вы имели в виду?
Красный Карлик осклабился, блеснув золотым зубом. Из кармана джинсовой куртки, висевшей на двери, он вынул ключ и торжествующе поднял над головой.
— Ключ от костюмерной! Поляков докладывает Центральному Комитету: задание выполнено! Но в свете последних событий, товарищ режиссер, нам нет нужды ее захватывать. — Я, наверно, покраснел. — Скромность тут ни к чему. Вы — народный избранник.
— Посмотрим, — ответил я, закрывая тему.
— А все-таки, что делал Липшиц на лестнице? — Гамбургер все еще не был удовлетворен.
— Очень просто, — сказал Красный Карлик. — Он ходит туда выпускать газы. У нас на этаже это все знают. Поверьте мне, вонь такая, что к нему не подступишься. Верно, сдул себя с площадки, как ракета самодвижущаяся.
Гамбургер рассмеялся. Объяснение было в его вкусе, если можно так выразиться.
— В сущности, — сказал Красный Карлик, — он не мог с собой совладать.
— Неплохо, Поляков, — сказал Гамбургер. — Неплохо. В таких делах бесполезно искать мотив: посеявший ветры пожнет бурю.
Надо сказать, я скучаю по ресторану Голдстайна. Склока на прошлой неделе сделала нас всех персонами нон грата. Одно яркое пятно в наших днях погасло. Гамбургер согласен со мной. Дело не только в еде, хотя без нее тоже стало скучнее, — дело в общей атмосфере, пронизанной чем-то, не поддающимся определению, — тем, что сегодня почти не найдешь в верхнем Вест-сайде. С запахами, с обстановкой, с лицами и акцентами ты уже сроднился; этот компанейский дух нечем заменить. И самого Голдстайна, его подвижной красной физиономии, дородной, безупречно одетой фигуры и даже его замшелых анекдотов — всего этого мне не хватает. Кто желал вендетты? Ни я, ни один из нас. Сегодня утром, гуляя по Бродвею, я увидел через окно Голдстайна, по обыкновению чесавшего спину о центральный столб, и Джо, ковылявшего на своих артритных ногах с чашкой кофе в руке. Я непроизвольно помахал рукой. Голдстайн отвернулся, Джо пожал плечами и покачал головой.
Неужели ничего нельзя сделать? Гамбургер считает, что нельзя.
— Это неустранимый факт жизни, — сказал он. — Тебе не ясно? Или ты забыл? Все хорошее кончается, о чем тут еще говорить? Лучше забудь об этом. Дерьмо воняет; спусти его.
— После двадцати с лишним лет?
— Для меня — дольше.
Возможно, он прав. Даже если нас пустят снова, как посетителей, все будет не так. Что случилось, то случилось. Кому как не мне знать, что прошлое изменить нельзя?
23
В тот вечер после ужина (жареная камбала, морковь на меду, маленькая вареная картофелина, компот) мы с Гамбургером посетили лазарет: отдали долг вежливости. До чего же грустная сцена предстала перед нами за дверью! Пять больничных коек, и лишь одна посередине, тускло освещенная лампой над изголовьем, занята: Липшиц. Возле кровати сидела согбенная горем Тоска Давидович и промокала глаза кружевным платком. Рядом стояла Лотти Грабшайдт, положив руку на плечо Тоски — то ли утешая ее, то ли удерживая. Липшиц лежал распростертый, как труп, руки были вытянуты вдоль боков поверх одеяла, пальцы перебирали ткань, словно пытались сорвать напечатанные на ней цветочки. Провалившиеся глаза на худом желтом лице были зажмурены; язык то и дело пробегал по губам. Череп его блестел в тусклом свете.
С некоторым трепетом мы приблизились к кровати.
— Злачник пажитнер, — произнес Липшиц с закрытыми глазами.
— Что он говорит? — прошептал Гамбургер.
— Злачник пажитнер, — снова произнес Липшиц.
— Он бредит, заговаривается, — прерывающимся голосом укоризненно сказала Тоска Давидович.
— На Диланси-стрит было ателье, — задумчиво сказала Лотти Грабшайдт, трогая брошку с мертвой головой. — «Злачник и Пажитнер: „Мы кроим — вас укроем“. Это было давно.
— «Он покоит меня на злачных пажитях"1] — предположил Гамбургер. Неужели это?
— Да, «если я пойду и долиною смертной тени"'… — дивясь, продолжил я. Тоска Давидович испустила горестный вопль. Липшиц облизнул губы.
— Лучше уведите ее, — обратился к Лотти Гамбургер. — Она его расстроит.
— Пойдем, Тоска, пойдем, мы больше ничем не поможем. А то вы сами, не дай бог, разболеетесь! — и она помогла Тоске подняться.
В дверях Давидович отбросила заботливую руку Лотти, повернулась к больному и приняла позу из 1 —и сцены 3-го акта, как, помню, учил ее бедняга Синсхаймер: правая нога согнута, левая отставлена назад, голова откинута, тыльная сторона руки прикасается ко лбу:
— А я, всех женщин жальче и злосчастней, Вкусившая от меда лирных клятв, Смотрю, как этот мощный ум скрежещет, Подобно треснувшим колоколам.
Она послала воздушный поцелуй Липшицу, прошептала: «Покойной ночи, милый принц» — и вышла, безумная, увлекая за собой Грабшайдт. Гамбургер невольно зааплодировал. Мы снова повернулись к кровати. Липшиц открыл глаза.
— Ушли? — прошипел он. Я кивнул.
— Слава богу! — Он ухмылялся.
Превращение было поразительное. Если не считать того, что аппарат для вытяжения не позволял ему двигать ногами, Липшиц снова стал самим собой. Мы поздравили его с начавшимся выздоровлением.
— Со старухами я больше не связываюсь, — сказал Липшиц. Гамбургер поморщился.
— Эта может выпить из человека всю кровь. Я настоял на том, что, если она хочет навещать меня, пусть приходит с дуэньей. Иначе через пять минут она окажется у меня под одеялом. Нимфоманка, поверьте моему слову.
Гамбургер очень хотел переменить тему («Вам что-нибудь нужно, принести вам что-нибудь из библиотеки — книгу, журналы?»), но Липшиц еще не закончил.
— Моя родная мать сбежала с гладильщиком из Байонны. Ей было шестьдесят три года, верите или нет? Ее звали «красавицей с Питкин авеню». Глядя на меня, вам это нетрудно представить, так что это не хвастовство. Каково, вы думаете, иметь отцом недотепу? Она ему такую жизнь устроила — я говорил ему: уж лучше совсем без нее. Я сам был посмешищем. «Что она такого нашла в Байонне, — говорил он, — что не могла найти лучше на Питкин?» Он это повторял тысячу раз, любому, кто соглашался слушать. Так и не смог это пережить, старый дурак, да будет земля ему пухом. Так что, когда я говорю вам: берегитесь старух, — я знаю, о чем говорю.