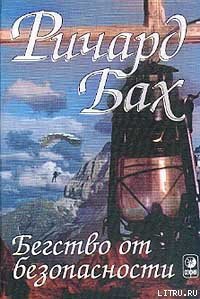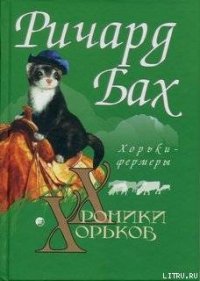Лисица на чердаке - Хьюз Ричард (читать онлайн полную книгу .txt) 📗
Под суховатыми, подчеркнуто корректными манерами Отто скрывался набожный католик с наклонностью к мистицизму.
Общеизвестно, что большинство немецких офицеров имперской армии были в те годы верующими христианами. Быть может, в своем офицерском кодексе они видели наибольшее (на их взгляд) мирское приближение к высокому бескорыстию Нагорной проповеди, а в слове «Германия» — мирской символ бога, которому они поклонялись. Ведь как бы то ни было, среди всех одушевленных созданий божьих Человек — единственная, в сущности, разновидность, ведущая войны; эта особенность присуща только человеку, и вместе с тем только человек создан по образу и подобию божьему. Так возможно ли, чтобы эта грозная его монополия ничего не значила? Разумеется, война — это лишь бледное земное отражение Абсолюта Его Мощи, а людское могущество — лишь частичное отражение этой мощи в Его земных подобиях: в битвах Его земные воплощения проходят через очищающее горнило, в котором выплавляется золото и сгорает шлак.
Исповедуемое ныне Отто глубокое убеждение в том, что только такое понимание войны является истинным, пришло к нему не сразу и, быть может, позднее, чем ко многим другим, ибо он видел, как сгорает «шлак» (некоторая его часть), и картина эта была слишком зловещей. Но в конце концов оно неотвратимо пришло и к нему, почерпнутое, как ему искренне казалось, из его собственного четырехлетнего опыта войны и поведения тех, кого он наблюдал вокруг. Так, при Бапоме, когда ему оторвало снарядом ногу, три солдата добровольно вызвались переправить его за линию фронта; они несли его поочередно, и, когда одного убили, его тотчас сменил другой. Мимо такого ни один человек не может пройти равнодушно, и забыть этого нельзя.
Будучи высокого мнения о своем призвании, Отто в личной жизни был очень скромен, но его убеждения, раз сложившись, уже не менялись, и поколебать их или породить в нем сомнения было бы нелегко. Он не спорил сам с собой, не вынашивал своих мыслей шаг за шагом, но достиг такой же внутренней убежденности, как если бы этот процесс в нем совершился: он верил, что для каждого человека война — наиболее действенный путь приобщения к благодати.
И все, что мог делать калека — притом втайне, — дабы возродить к жизни объявленную вне закона германскую армию, Отто делал. Но военные действия были приостановлены, Германская империя так расшатана, а гражданское население так духовно развращено, что могли пройти годы, прежде чем удастся возобновить войну, и Отто внезапно пронзила глубокая жалость к этому молодому английскому кузену — жалость, подобная той, какую испытывал он порой к своему племяннику Францу. Он не мог не жалеть этого поколения, которому так не повезло, оттого что война окончилась для него слишком рано, — ведь следующая-то могла прийти слишком поздно.
Одноногий Отто покидает свой кабинет и с немалым трудом (ступеньки так покаты и неровны) спускается по лестнице. Спустившись во двор, он видит, что его брат Вальтер направляется к воротам замка. Грузный Вальтер, несмотря на свои огромные габариты, движется легко и упруго, как кошка, но это скорее походка охотника, чем солдата…
Как это похоже на Вальтера (с нежностью думает Отто) по долгу вежливости самому ехать на станцию встречать своего юного гостя.
5
Сидя в битком набитом общем вагоне каммштадского поезда, Огастин был исполнен жгучего интереса ко всему окружающему. Какие мирные, бескрайние поля! Какие рощи, ухоженные, словно хризантемы, — как непохожи они на привольные чащи английских лесов! Какие очаровательные, крытые желобчатой черепицей пастельные домики деревень и луковки церковных куполов… И все это, все, что проносится там, за тусклым заиндевевшим окном, — Германия! И все эти дружелюбные люди рядом с ним в купе… Они кажутся самыми обыкновенными людьми, но ведь в действительности все они «немцы» — даже эти крошечные ребятишки!
У старого крестьянина, расположившегося против Огастина, был такой огромный живот, что ему приходилось сидеть, раздвинув ноги; крестьянин курил причудливо изогнутую трубку, пахнущую прелым сеном. Лицо его светилось любопытством; он уже пытался заговорить с Огастином, но познаний Огастина в немецком языке, преподанных ему в швейцарской школе, было, увы, недостаточно, чтобы понять этот невнятный говор, несмотря на то, что каждое слово старик выстукивал у него на колене. У жены старика тоже было очень доброе морщинистое лицо и острый, веселый и насмешливый взгляд…
Огастин чувствовал, что был бы счастлив провести остаток своих дней среди этих простых, доброжелательных людей! У него совершенно не возникало здесь ощущения, что он приехал во враждебную страну. Но за неимением другого способа выразить этим людям свою приязнь он только смотрел на них с широкой радостной улыбкой.
Маленький поезд, двигавшийся по высокой эстакаде над обледенелой поймой реки, перед поворотом дал сам себе предостерегающий гудок. Огастин потер пальцем заиндевевшее стекло, чтобы сделать глазок пошире.
Из-под необъятных темных юбок старой крестьянки, сидевшей напротив Огастина, донеслось слабое одурманенное клохтание полузадушенной курицы, и мгновение спустя вся нижняя часть туловища женщины стала колыхаться от движений невидимых птиц. Крестьянка наклонилась и принялась что было мочи хлопать по своим юбкам, стараясь утихомирить разбушевавшихся кур, но наиболее красноречивая курица окончательно обрела голос и заклохтала еще более возмущенно, после чего к ней присоединились и остальные. Крестьянка с тревогой оглянулась на кондуктора, но, по счастью, он стоял к ней спиной…
Какой славный народ! Огастин громко рассмеялся, и глаза старой крестьянки весело блеснули ему в ответ.
Накануне вечером экспресс пересек границу и прибыл в Мюнхен, когда уже стемнело, и потому свою первую ночь на немецкой земле Огастин провел в старом отеле «Байришер-Хоф». В свое время отель этот был перестроен, однако в тот вечер он показался Огастину хотя и внушительным, но довольно обветшалым и мрачным постоялым двором. Когда Огастин, стоя у конторки, заполнял регистрационный бланк, его поразила одна особенность: ему показалось, что все служащие отеля как-то странно рассеяны — словно у всех мысли заняты чем-то куда более важным, чем их прямые служебные обязанности. Это не только удивило, но и расположило Огастина к этим людям, и он сразу проникся к ним сочувствием, так как, принадлежа к тому классу, который, в сущности, почти никогда не пользуется услугами отелей, он испытывал ко всем заведениям такого сорта некую смешанную с презрением неприязнь. Понятно, что этот затхлый воздух, типичный для всех гостиничных вестибюлей, должен раздражать здоровые и чувствительные молодые носы, — этот запах разбавленного алкоголя, недокуренных, брошенных в недопитый кофе сигар, жирных, неустанно поглощаемых блюд, так упорно плывущий сюда откуда-то сверху, что даже портьеры здесь хранят запах еды, и то и дело возникающий где-то уже совсем рядом запах новеньких чемоданов из свиной кожи, и дорогих мехов, и несварения желудка, и мятных лепешек, и тонких духов, чрезмерно и безуспешно расходуемых на легкомысленную женскую плоть.
А несколько позже наш путешественник-новичок был не менее удивлен, найдя на своей стандартной кровати огромный пуховик в белой бумажной наволочке, но не обнаружив одеяла в пододеяльнике, которое можно было бы под себя подоткнуть. И уж окончательно повергли его в изумление полускрытые за умывальником, выцарапанные на стене спальни какие-то таинственные письмена… Среди перечней имен он, как ему показалось, разобрал слова:
Двадцать седьмое февраля 1919
Вместе с шестью другими невинными заложниками…
(За этим следовало нечто неразборчивое, а потом)
АДЕЛЬ! ПРОЩАЙ!!!